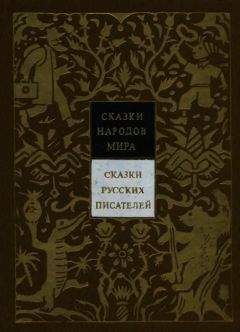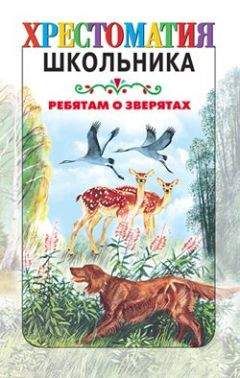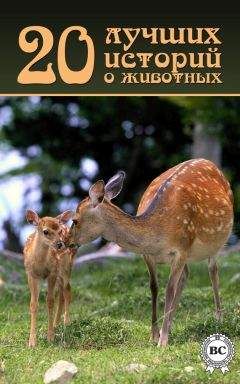этот раз. К городу лезли большевики. Поэтому четырехглазых гнали в строй. Косые блямбы шли в строй. Человек, у которого один вид винтовки вызывал рвоту, легендарный трус Сема Глазет тоже попался. Его взяли в облаве.
Вечером стеклянной роте выдали твердые, дубовые сапоги и повели в казармы. В первой шеренге разнокалиберного воинства шел Колесников. Во всей роте он один не носил очков, не дергал глазами, не стрелял ими вбок, не щурился и не моргал, как курица. Это было удивительно.
Ночью в небе шатались прожектора и быстро разворачивались розовые ракеты. Далеким и задушевным звуком дубасили пушки. Где-то трещали револьверами, словно работали на ундервуде, — ловили вора. Рота спала тревожным сном. Семе Глазету снился генерал Куропаткин и мукденский бой. Иногда в окно казармы влетал свет прожектора и пробегал по лицу Колесникова. Он спал, закрыв свои прекрасные глаза.
Утром начались скандалы. Рядовому второго взвода раздавили очки. Усатый прапорщик из унтеров задышал гневом и табачищем, как Петр Великий.
— Фамилие твое как?
— Шопен! — ответил агонизирующий рядовой второго взвода.
— Дешевка ты, а не Шопен! Что теперь с тобой делать? Видишь что-нибудь?
— Ничего не вижу.
— А это видишь?
И рассерженный прапорщик поднес к самому носу рядового Шопена такую страшную дулю, что тот сейчас же замолчал, будто навеки. Медали на груди прапорщика зловеще стучали. Вся рота, кроме Колесникова, была обругана. Больше всех потерпели косые.
— Куда смотришь? В начальство смотри! Чего у тебя глаз на чердак лезет? Разве господин Колесников так смотрит?
Все головы повернулись в сторону Колесникова. Украшение роты стояло, отчаянно выпучив свои очи. Ярко-голубой правый глаз Колесникова блистал. Но левый глаз был еще лучше. У человека не могло быть такого глаза. Он прыскал светом, как звезда. Он горел и переливался. В этом глазу сидело небо, солнце и тысячи электрических люстр. Сема пришел в восторг и чуть не зарыдал от зависти. Но начальство уже кричало и командовало. Очарование кончилось.
Ученье продолжалось еще неделю.
Звенели и разлетались брызгами разбиваемые очки. Косые палили исключительно друг в друга. Рядовой Шопен тыкался носом в шершавые стены и беспрерывно вызывал негодование прапорщика. Утром стеклянную роту должны были грузить в вагоны, на фронт. Но уже вечером, когда косые, слепые и сам полубог Колесников спали, в море стали выходить пароходы, груженные штатской силой. В черное, лакированное небо смятенно полезли прожектора. Земля задрожала под колесами проезжающей артиллерии. Полил горячий дождь.
Утром во дворе казармы раздались свистки. Весь город гремел от пальбы. Против казармы загудела и лопнула какая-то металлическая дрянь. В свалке близоруких и ослепленных бельмами прапорщик искал единственную свою надежду, украшение роты, полубога Колесникова.
Полубог лежал на полу. Сердце прапорщика моталось, как маятник.
— Колесников, большевики!
Колесников привстал на колени. Правый глаз его потух. Левый был угрожающе закрыт.
— Что случилось? — закричал прапорщик.
Полубог разъяренно привстал с колен.
— Ничего не случилось! Случилось, что глаз потерял. Дураки ваши косоухие из рук вышибли, когда вставлял его, вот что случилось.
И он застонал:
— Лучший в мире искусственный глаз! Где я теперь такой достану? Фабрики Буассон в Париже!
Прапорщик кинулся прочь. Единственная подмога исчезла. Спасаться было не с кем и некуда. Оставалось возможно скорее схоронить погоны и медали. Через пять минут прапорщик стоял перед Глазетом и, глядя на проходивших по улице черноморцев, говорил:
— Я же сам скрытый большевик!
Сема Глазет, сын буржуазных родителей, заревел от страха и упал на пол.
Досада змейкой пробежала по ее лицу при взгляде на карточку, поданную ей читальным мальчиком. Но тотчас же черты ее приняли обычное выражение, слегка скучающее и надменное, которым я любовался вот уже три дня, как только приехал в курорт. Она не была незнакомкой, звалась Сесиль Гарнье, писалась актрисой, приехала из Рима и, очевидно, как и все, жившие здесь, искала здоровья в этом маленьком чистом городке, защищенном от северных ветров высокою горою. Я ее никогда не встречал у источника, хотя вид она имела болезненный. Впрочем, может быть, я не встречал ее потому, что сам прибыл сюда отнюдь не для леченья, а чтобы убежать от людей. Может быть, и она ищет уединения, ни с кем не знакомится и отклоняет все визиты, как этот теперь. Хотя для простого визита она слитком взволновалась. Я впервые услышал ее голос, обыкновенный, слишком открытый по звуку, когда она сказала, по-видимому, спокойно:
— Я сказала раз навсегда, что меня никогда нет дома для этого господина. Вы напрасно трудились передавать карточку.
Я последовал за мальчиком, который вышел с поклоном. В прихожей стоял высокий молодой человек, бритый, с печальными темными глазами, одетый в дорожный серый костюм, зеленую шляпу и высокие желтые краги. Может быть, он приехал верхом. Мальчик убедительно толковал ему что-то, тот не соглашался.
— Но мне говорили, что г-жа Гарнье остановилась именно здесь.
— Я ничего не говорю. Она стоит здесь, вот ее имя в книге: Сесиль Гарнье, — но ее сейчас нет дома.
— Вероятно, она скоро будет: она ведь не уехала из города. Я ее дождусь.
— Может быть, их долго не будет.
— Все равно. У меня времени достаточно, я почти специально для этого сюда приехал!
— Как вам угодно.
Господин сел прямо против двери в читальную комнату.
— Может быть, господин перейдет в гостиную? — следующий этаж? — там удобнее ждать. Ему тотчас доложат, когда прибудет г-жа Гарнье.
— Мне здесь удобнее. Могу я пройти в читальную?
— Там ремонт…
Отозвав мальчика в сторону, я спросил его, кто этот посетитель, но он ничего не мог ответить кроме того, что фамилия его Брук, и убежал на звонок.
На следующий день повторилась та же история. Очевидно, г-н Брук отличатся настойчивостью в своих исканиях. Крайняя досада отразилась на чертах г-жи Гарнье, когда она прошептала: «Боже мой! Чего ему от меня нужно?»
Считая удобным заговорить с нею, я произнес:
— Не правда ли, как неделикатно со стороны людей так лезть, когда их не желают видеть?
— Еще бы я желала его видеть!
— Я виню отчасти администрацию гостиницы, которая не может исполнить вашего желания, так ясно выраженного.
Она пожала плечами.
— Что может сделать администрация? Это ее нисколько не касается, это мое личное дело.
— Но вы могли бы обратиться к местной полиции.
Г-жа Гарнье промолчала с гримаской, наконец, сказала:
— По некоторым причинам мне бы не хотелось сюда путать полицию.
Я понял, что сказал глупость, и, желая понравиться, едва ли не сделал