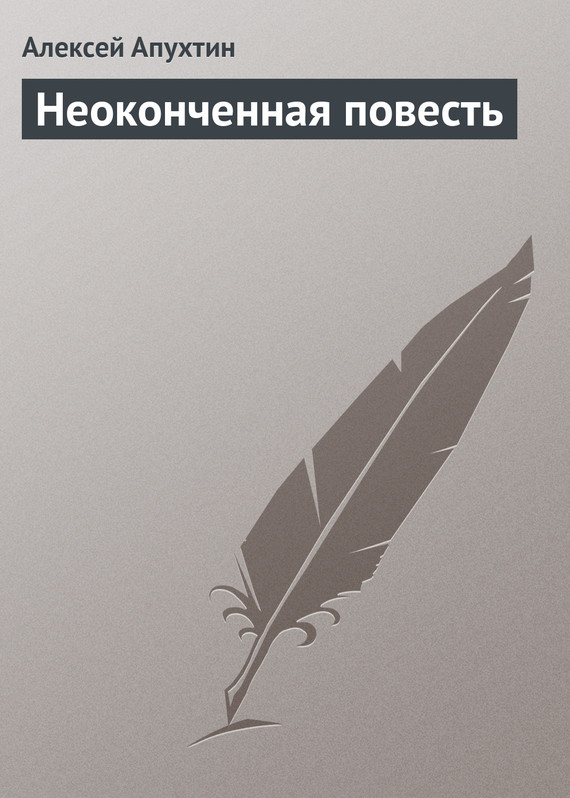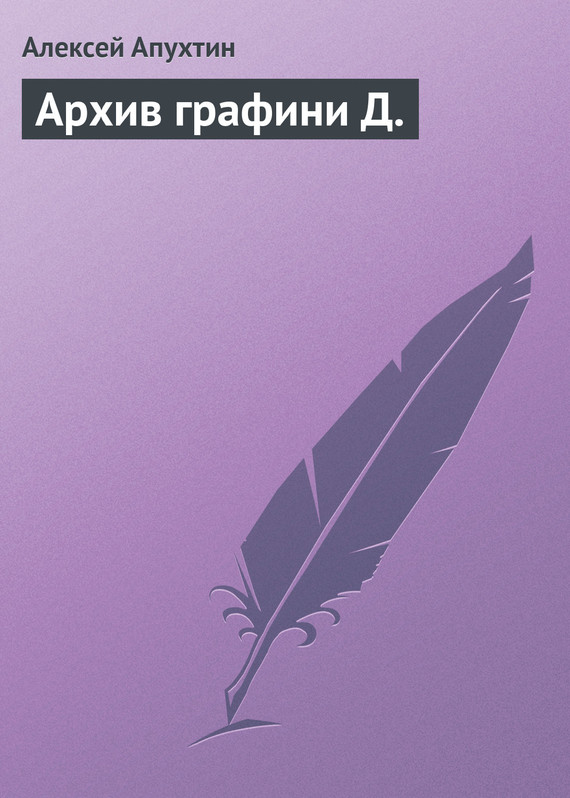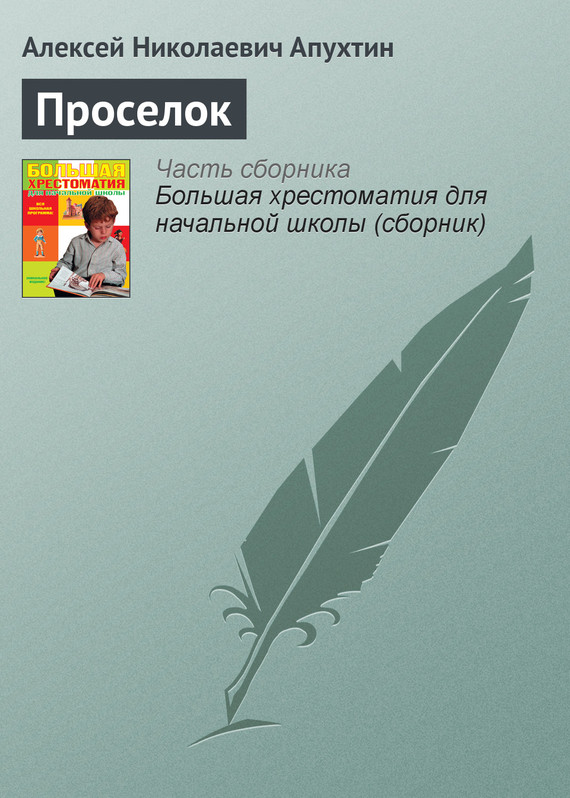знаете, почему оплели… А все это отчего? Оттого, что почти все наши дипломаты немцы [98]. Разве немец может понять и защитить русские интересы? Вот когда во главе нашей дипломатии были настоящие русские люди, они высоко держали русское знамя. Зато их имена мы произносим с благоговением.
– Кто же это такие?
– Как кто? Вы сами знаете, кто.
– Ну, однако, назовите кого-нибудь.
– Извольте-с, назову. Ну, вот вам: Каподистрия… [99]
– Благодарю вас; он именно был не русский.
– Да он, по крайней мере, немцем не был, поймите это! – завопил князь, подбегая к Менцелю с сжатыми кулаками, – и за это одно ему великое спасибо. Ведь все зло от немцев, ведь они все христопродавцы, начиная с Иуды.
– Иуда тоже был немец?
– Да-с, он был немец, и я вам это докажу.
Менцель поспешил заявить, что ему это безразлично, потому что сам он, Менцель, русский, хотя и носит немецкую фамилию.
Угаров вернулся домой в четвертом часу ночи, усталый и измученный. Голова у него трещала от вина и от всех впечатлений дня. Впечатления не были симпатичны, но, однако, на другой день в пять часов он входил к Дюкро, успокаивая свою совесть тем, что надо же где-нибудь пообедать. Скоро он втянулся. Недели через две, при расплате, оказалось, что у него не было мелких денег, и он вручил Абрашке сторублевую бумажку. Татарин принес ее обратно, извиняясь, что в кассе разменять ее нельзя, и передал Угарову предложение m-me Дюкро завести в ресторане счет. Угаров не нуждался в кредите, но это предложение показалось ему удобным, и он согласился. Акатов поздравил его с официальным вступлением в «друзья дома», и он должен был по этому случаю угостить шампанским всех присутствовавших. Несмотря на это экстраординарное угощение, разговор не клеился. Акатов уже целый час беседовал о производстве с усатым полковником, приехавшим на несколько дней из Варшавы. Это был его товарищ по выпуску, и потому он называл его по школьному прозвищу «Сапогом».
– Да пойми ты, Сапог, что если бы Петька Горев не сел мне на шею, то я был бы теперь таким же полковником, как и ты. Ведь из-за этого проклятого Петьки я восемь лет просидел поручиком.
– Ну, полковником ты бы вряд ли был теперь, – отвечал Сапог, – а только в самом деле, что же это за порядок? Одно из двух: или не ходи в академию, или, если уж пошел, не возвращайся в полк. Такой же случай был у нас в Варшаве…
Князь Киргизов молча пил свой чай с коньяком и угрюмо посматривал в сторону Менцеля, лысина которого чуть-чуть виднелась из-за огромной газеты, только что присланной ему из министерства.
Когда Угаров уехал, Акатов почтительно обратился к князю Киргизову:
– Скажите, князь, нравится ли вам новый член нашего клуба?
– Кто это? Угаров? Ничего, он, кажется, скромный…
– Абрашка, бутылку! – закричал Акатов. – Господа, я сегодня в первый раз в жизни слышал, что князь кого-нибудь похвалил, а теперь предлагаю выпить вам за преображение князя Киргизова!..
– Я нахожу этот тост и неуместным, и несправедливым, – заметил сухо князь. – Во-первых, я могу и хвалить и порицать, кого мне заблагорассудится, а во-вторых, я и не думал хвалить этого Угарова. Я только сказал, что он скромный… разве это неправда?
– Скромный-то он скромный, – продолжал Акатов, подливая Сапогу, – но, знаете ли, князь, иногда наружность бывает обманчива. Недаром говорится, что в тихом омуте черти водятся. Иной очень скромен на вид, а поройся в нем хорошенько – такая шельма окажется, что не приведи господи!
– Это совершенно справедливо, – согласился князь, которого уже начинала разбирать желчь, – и я вам скажу больше: мне кажется, что Угаров именно принадлежит к типу таких ложных скромников…
– Еще бы! Это сейчас видно.
Через четверть часа князь, хлебнув сразу полстакана чаю, немилосердно ругал Угарова, назвал его разбойником и заявил, что он с первого взгляда почувствовал к нему недоверие, потому что терпеть не может рыжих людей.
Из другого угла комнаты раздался громкий хохот Менцеля.
– Oh, elle est forte, celle-lsi, – говорил он, роняя на пол газету. – Ce pauvre Ougaroff peut-etre un brigand – je ne dis pas non – mais il n'est pas roux, par exemple… Je suppose, que vous avez la berlue…
– C'est vous, monsieur, qui avez la berlue, et encore la pire de toutes – la berlue diplomatique… [100]
Опять на сцену явились дипломаты, Венский конгресс и немцы. Князь рассвирепел, глаза его налились кровью, и он так нервно забегал по комнате, что Акатов не на шутку за него испугался. Он встал с дивана и неожиданно схватил за локоть князя, сказав ему вполголоса:
– Послушайте, князь, не пора ли спать? Скоро четыре часа…
– Действительно, пора, – ответил спокойным голосом князь и ушел, ни с кем не простившись.
На другой день он явился в свой обычный час и очень дружелюбно поздоровался с Угаровым, Менцелем и прочими «друзьями дома», а через два часа, подбиваемый Акатовым, осыпал ругательствами усатого полковника, который в это время безмятежно спал в вагоне, возвращаясь обратно в Варшаву, и которому даже и присниться не могло, какое негодование и какую злобу он возбудил во вчерашнем собеседнике…
IV
Дни проходили за днями. События громадной важности, переплетаясь с мелочами и дрязгами жизни и иногда подчиняясь их влиянию, уносились куда-то, оставляя за собой едва заметные следы, заметаемые очень скоро новыми событиями и новыми дрязгами. Нелепая война, поглотившая столько миллиардов и столько неповинных людей, кончилась Парижским миром [101], то есть сравнительно – ничем. Побежденные защитники павшего Севастополя могли без краски стыда в лице возвращаться на родину, и русское общество встречало их как триумфаторов. Великий писатель, сражавшийся сам в рядах их и написавший несколько гениальных очерков Севастополя, впоследствии отнесся критически к этим овациям и встречам [102]. Конечно, в них было много восторженно-детского, но это вовсе не было упоение победой, а радостное сознание честно исполненного долга. И в то же самое время, как резкий диссонанс в этом хоре общего ликования, уже начиналось дело о неслыханных злоупотреблениях комиссариатского ведомства…
Пышные торжества коронации [103] были последней гранью между невозвратно ушедшим прошлым и новой, широко раскрывавшейся жизнью.
Что же даст эта новая жизнь? Вся Россия замерла в лихорадочном ожидании. Одни надеялись, другие боялись; но так как ничего определенного еще не было известно, то надеялись на слишком многое, – и боялись всего.
В Петербурге, где самые мелкие явления жизни принимают иногда в глазах общества грандиозные размеры, ожидание это не было очень заметно. В свете избегали говорить о таком неприятном предмете и склонялись к мысли, что, может быть, эта «чаша» пройдет мимо; да и личные интересы огромного большинства не были так задеты предстоящей реформой, как в