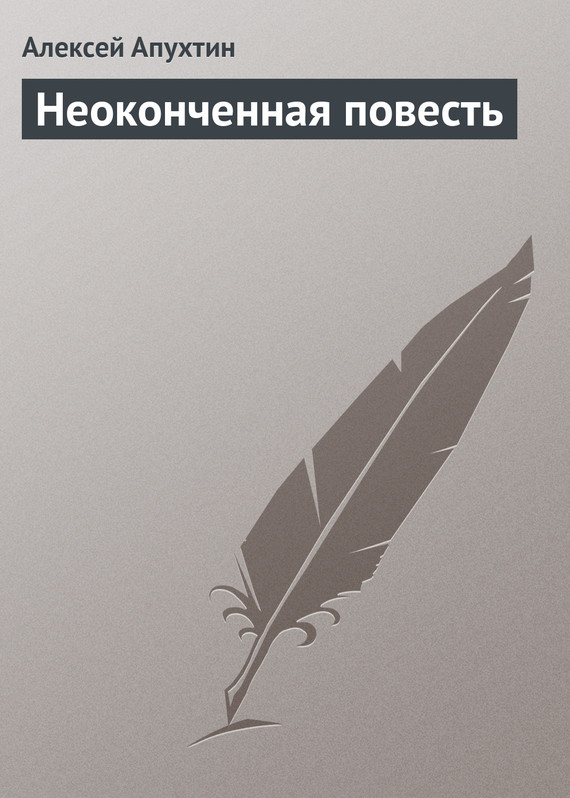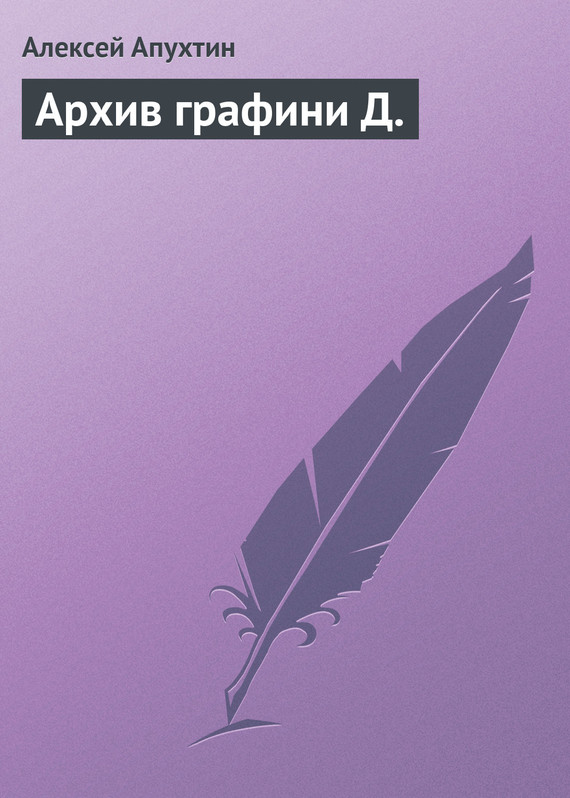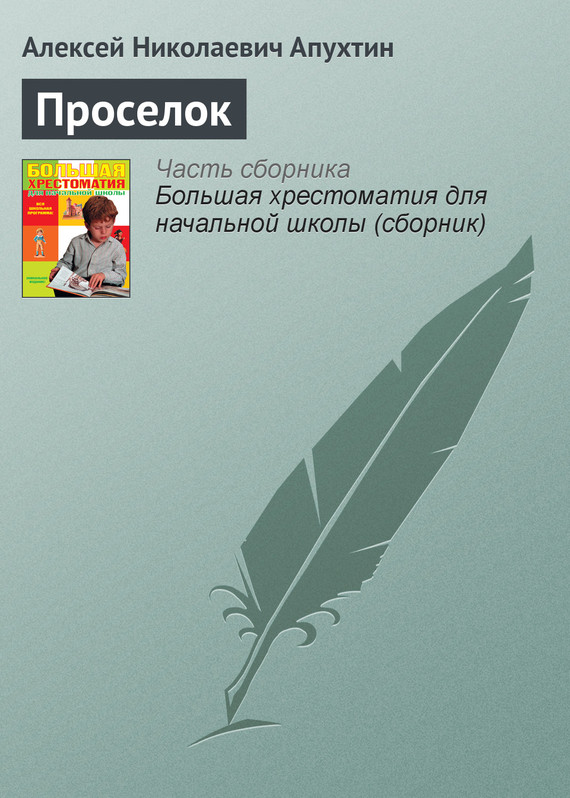провинции.
«Черт ли мне в реформе?! – размышлял Сергей Павлович Висягин. – Отберут у меня или не отберут те восемьдесят душ, которые мне приходятся по разделу с братом, – это мне почти все равно. А вот, дадут ли мне на Пасху Белого Орла [104], – это мне всего интереснее…»
Возвратясь поздно ночью с какого-то бала, графиня Хотынцева прошла прямо в комнату мужа, зажгла все свечи и, растолкав графа, сказала:
– Базиль, могу сообщить тебе важную новость. Сейчас княгиня Марья Захаровна сказала мне, что никаких перемен больше не будет. Правительство и без того дало много свободы. Теперь за границу может ехать всякий, кто хочет, офицеры гуляют в пальто и фуражках, и все курят на улице… Чего же им больше? А мужиков решено освободить через пятьдесят лет. Я нарочно тебя разбудила, чтоб ты мог спать спокойно.
Граф Василий Васильевич еще протирал глаза, чтобы решить, – видит ли он все это во сне, или наяву, как графиня исчезла.
– О, господи, какой крест я несу! – ворчал он про себя, ища ногами туфли и вставая с постели, чтобы потушить свечи.
Первый севастополец, увиденный Угаровым, был Семен Семенович Кублищев. Пробыв все одиннадцать месяцев в Севастополе и получив Георгия, он приехал в Петербург с прошением об отставке «по домашним обстоятельствам». Его мать, у которой уже открылась водяная, настоятельно требовала от него этой жертвы. Флигель-адъютант, просящийся в отставку, представлял совсем новое явление. Он был отпущен с неудовольствием, но все-таки получил звание шталмейстера. Накануне отъезда он завернул поужинать к Дюкро. Все «друзья дома» были с ним знакомы. Угарова он в первую минуту не узнал, но потом вспомнил о совместном пребывании с ним в Троицком и очень долго перед ним извинялся. Конечно, весь вечер он должен был рассказывать о Севастополе. О себе он вовсе не упоминал в рассказах, но о других, особенно о моряках, говорил с пафосом, переходившим в декламацию. Чувствовалось, что он говорит искренно, но что рассказы свои он тщательно обдумал и приготовил заранее, так как рассказывать ему приходилось в очень высоких сферах. Когда же князь Киргизов, по духу противоречия, попробовал высказать кое-какие сомнения, Семен Семенович, донельзя мягкий в обращении, остановил его очень резко. Князь отыгрался на интендантских чиновниках. Он ругал их всласть, и Кублищев за них не заступался.
С большой похвалой отозвался Семен Семенович и о товарищах Угарова, которых близко знал. Андрей Константинов, ставший и в Севастополе, как в лицее, предметом общей любви, был убит 27 августа, выбивая французов из редута Шварца [105]. Гуркин был так потрясен смертью друга, что не захотел вернуться в Петербург и зарылся в своей деревне, где-то в Херсонской губернии. Второй Константинов – Дмитрий, несколько раз раненный и увешанный знаками отличия, был взят в адъютанты одним важным генералом и уехал за границу лечиться.
Угаров уже знал о смерти Константинова; это была первая смерть, от которой болезненно сжалось его сердце. До тех пор смерть представлялась ему чем-то страшным, но в то же время и чем-то мифическим, не имеющим никакого отношения к нему и к близким ему людям. После торжественной панихиды, отслуженной в лицее всем выпуском, Угаров несколько дней ни о чем другом и думать не мог. Понемногу это впечатление побледнело, но под влиянием рассказов Кублищева оно воскресло с новой силой. Всю ночь мерещилось Угарову смуглое симпатичное лицо погибшего товарища. Добрые глаза смотрели на него с укором и как будто говорили: «Вот ты живешь, пользуешься обществом других людей, ужинаешь у Дюкро, спишь в теплой постели, а я лежу один в сырой и темной яме… За что?»
И Угарову казалось, что он в чем-то виноват перед Константиновым, что он недостаточно ценил его при жизни. Совесть упрекала его и за то, что после выпускного кутежа он проспал все утро и не приехал проводить Константинова на железную дорогу.
Вообще Угарову жилось невесело. Те мечты о счастье, с которыми он ехал в Петербург, понемногу разлетались, как дым. Женщина «ослепительной» красоты не появлялась, любовь не приходила. Одно время он задумал опять ухаживать за Эмилией Миллер и начал каждый вечер ходить наверх. Эмилия держала себя с большим достоинством и не делала никакого шага для возобновления прежних отношений, а Угаров испытывал странное ощущение: когда он не видел Эмилии, она представлялась его воображению красавицей, но при каждом новом свидании он находил, что она опять подурнела. Иногда у Миллеров бывали необычайно скучные гости, но, когда их не было, Угаров чувствовал себя хорошо в этом простом и тихом доме, несмотря на шутливые заигрывания и мещанские выходки генеральши. Стоило ему, например, похвалить какой-нибудь ковер, генеральша сейчас же заявляла:
– О, это прекрасный ковер, он стоит сорок шесть рублей. Передавая ему стакан чаю в подстаканнике, она прибавляла:
– Посмотрите, какой отличный мельхиор!
Раз они сидели за чаем втроем. Карлуша, державший и мать и сестру в ежовых рукавицах, почти никогда не бывал дома по вечерам. Раздался звонок, и в залу скорыми шагами вошла девушка небольшого роста в темном дорожном платье, с саквояжем в руках. И мать, и дочь бросились ее целовать с самыми шумными изъявлениями радости. Эмилия сейчас же увела ее в свою комнату, откуда скоро явилась горничная с просьбой прислать чай туда. Угаров успел только заметить, что приехавшая была некрасива и худа, но глаза у нее были очень умные.
– Это моя племянница, Вильгельмина фон Экштадт, – пояснила генеральша. – Она к нам приехала из Ревеля. О, эта девушка будет играть большой роль в нашем семействе…
Генеральша остановилась, ожидая вопроса; но Угаров молчал, не считая приличным расспрашивать. Генеральша не выдержала.
– Владимир Николаевич, – заговорила она почти шепотом, – я вас считаю, как за родственника, и сейчас вам скажу, какой роль будет играть Вильгельмина в нашем семействе. Она – невеста Карлуши.
– Как! Карлуша женится? – воскликнул Угаров. – Он ничего мне об этом не говорил.
– О, ради бога, не говорите ему, что я вам сказала… Это – большой, большой секрет. Их свадьба будет через два года.
– Только через два года? Отчего же это?
– Это оттого, что Карлуша надеется быть тогда столоначальником, и ему обещали в одной компании место с два тысяча жалованья, и еще наш дядя Рудольф фон Экштадт завещал Вильгельмине двадцать тысяч серебром, с условием, что Вильгельмина может трогать свой капитал, когда ей будет двадцать пять лет. С процентами будет двадцать один тысяч шестьсот рублей. А теперь им было бы трудно, очень трудно жить.
– Но ведь и ждать им трудно, Эмилия Федоровна. Мало ли что может случиться в два года. Они могут разлюбить друг друга, изменить намерение…
– О нет, Владимир Николаевич, нет! нет!