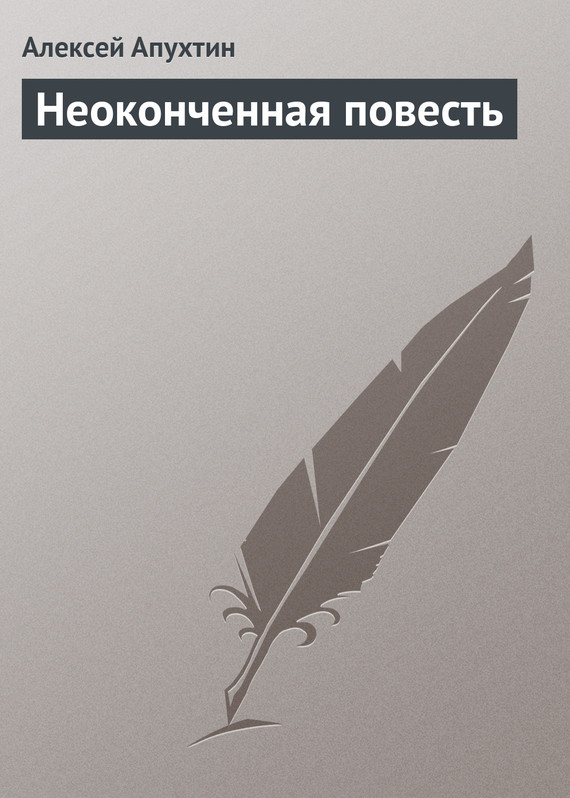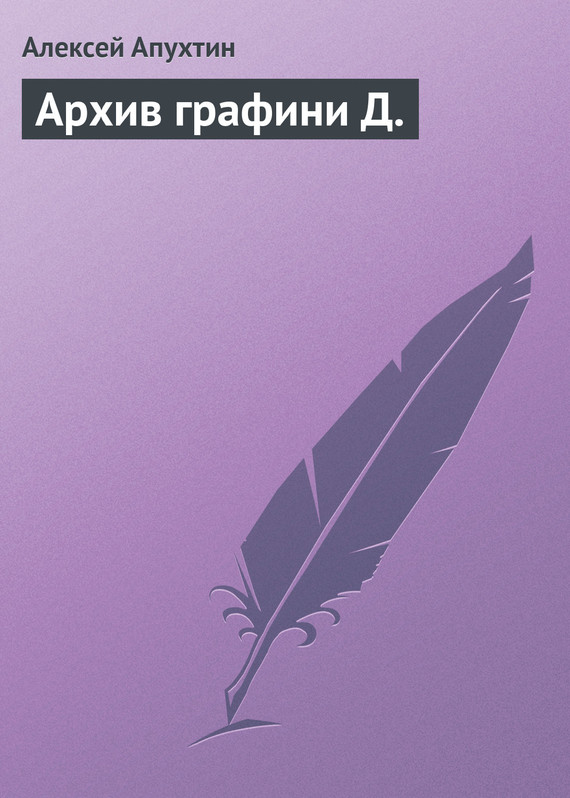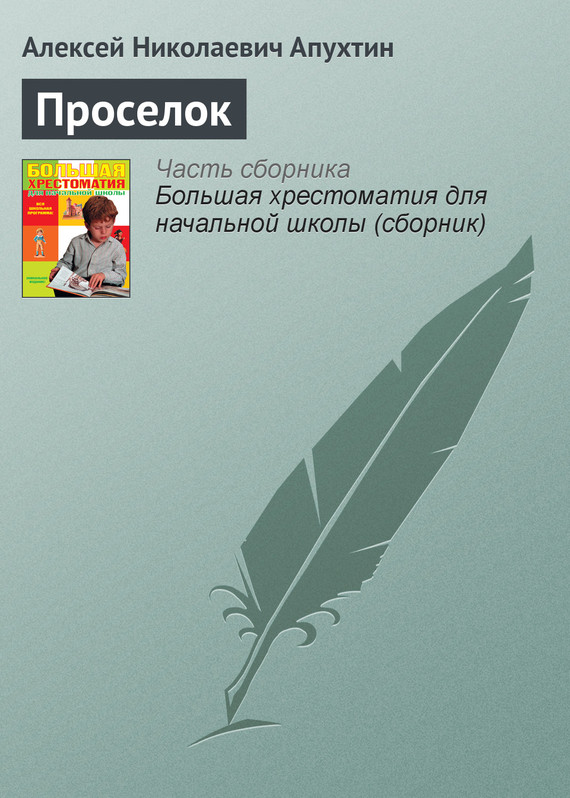Угаров. – Неужели я должен был писать против своего убеждения?
– Нет, зачем же? Вы могли высказать свои убеждения, но в иной форме. Вы могли бы, например, начать так: «Хотя на это можно возразить то-то и то-то»… ну, и высказать свои убеждения – только, конечно, на пяти-шести, а не на сорока страницах, а в конце все-таки сказать, что мы, тем не менее, не находим препятствий… Да и потом надо всегда обращать внимание на то, откуда к нам поступило дело. Если оно прислано на заключение каким-нибудь завалящим министром, ну, тогда можно, пожалуй, немного поумничать… Но ведь зотовское дело прислано князем Василием Андреичем, и с ним бороться трудно. Ему можно отвечать только так, как я ответил. Я после вас, конечно, не хотел поручать дело кому-нибудь другому и сам занялся им.
И Сергей Павлович с торжеством начал читать великолепно переписанный и совсем готовый доклад, на котором не хватало только подписи графа Хотынцева.
– «Вследствие отношения вашего сиятельства за нумером тысяча двести сорок четвертым…» ну, тут идут формальности… «Рассмотрев с полным вниманием вышеозначенное дело, я нахожу…» И после этого я почти целиком выписал мнение самого князя Василия Андреича, которое вы видели в деле. Ну, конечно, я немного изменил некоторые фразы и рассыпал, par-ci, par-la [106], эти ничего не значащие словечки, которые я называю канцелярскими арабесками, как-то: «Независимо сего», или: «нельзя, с другой стороны, не обратить внимания и на то…», или вот эту фразу (и Сергей Павлович ткнул в нее пальцем): «Переходя затем от общих оснований дела к вопросу о нарушении казенного интереса…» Au fond tout ca ne dit rien, mais ca fait dans le paysage [107].
– Позвольте мне, Сергей Павлович, сделать один вопрос, – сказал робко Угаров. – Зачем же в таком случае нам присылают дела на заключение? Ведь это – ненужная формальность.
– Зачем? – повторил Висягин, рассматривая что-то на потолке. – А затем, мой юный друг, чтобы нам можно было получать жалованье и не умереть с голоду. Если бы уничтожить все то, что может вам показаться ненужной формальностью, тогда могли бы упразднить все наше министерство и довольствоваться одним Ильей Кузьмичом с двумя писцами.
Угаров вышел как ошпаренный из директорского кабинета. После этого он написал еще несколько докладов по рецепту Сергея Павловича, но работа эта была ему противна, а так как он считался чиновником сверх штата, то скоро совсем перестал ходить в департамент.
Чтобы чем-нибудь наполнить свои досуги, Угаров абонировался в книжном магазине и библиотеке для чтения Овчинникова. В библиотеке был большой выбор русских и французских книг, за которыми Угаров заходил раза два в неделю. Главный приказчик оказался очень любезным человеком, сам выбирал для Угарова книги и охотно вступал в разговор о прочитанном. Это был маленький, коренастый человек, лет тридцати, очень белокурый и бледный. Глаза у него были маленькие, взгляд проницательный и быстрый, усы почти белые. Звали его Орестом Иванычем Сомовым. Раз вечером, перед самым закрытием магазина, Угаров принес старые «Отечественные записки», где ему очень понравилась статья о Пушкине.
– Еще бы! – воскликнул Сомов. – Это статья Белинского [108].
Угаров смутно знал что-то о Белинском. Это имя не произносилось ни на кафедре, ни в печати. Сомов начал говорить о нем, глаза его заблестели, на лице появился румянец. Между тем девять часов давно пробило, приказчики разошлись, сторож потушил все лампы и несколько раз входил в магазин, намекая этим, что пора его запереть. Одна свеча стояла на конторке Сомова, но и та грозила сейчас догореть и погаснуть. Вдруг за конторкой отворилась дверь, и на пороге показалась молодая женщина с платком на голове.
– Орест Иваныч, – сказала она вполголоса. – Самовар давно подан, сейчас погаснет.
Угаров со вздохом взялся за шляпу. Сомову также было досадно прервать разговор.
– Что же, – сказал он нерешительно, – если вам не хочется спать, вы, может быть, зайдете в мою каморку.
Комната, которую Сомов назвал каморкой, была так мала, что не заслуживала другого названия. Большой продавленный диван и несколько ветхих стульев составляли ее убранство. За белой кисейной занавеской помещался большой кованый сундук и была еще дверь, за которой скрылась женщина в платке. Стол перед камином был накрыт белой скатертью. На столе вместе со всеми чайными принадлежностями стояла холодная закуска. Все было очень опрятно и просто. Разговор продолжался и от Белинского перешел к другим писателям. Сомов имел колоссальную память и говорил наизусть не только стихи, но и целые страницы прозы. В оценке писателей произошло разногласие. Угаров боготворил Пушкина, а Сомов, очень хорошо понимая художественную сторону поэзии, предпочитал стихи с «направлением». Его любимый поэт был Некрасов, и он с восторгом прочитал несколько стихотворений этого поэта, ходивших тогда еще в рукописи [109] и поразивших Угарова своей силой. Рукописей у Сомова было множество; весь сундук был наполнен ими. Время летело незаметно, и в пятом часу утра Угаров ел выборгский крендель и колбасу с таким удовольствием, какого ему не доставляли никакие сальми и рагу французской кухни. Через несколько дней вечер повторился, потом Угаров пригласил Сомова к себе. Тот долго отнекивался, но все-таки пришел. Угаров приготовил такую же скромную закуску и прибавил только бутылку вина, от которого Сомов решительно отказался.
– Я себя знаю, – сказал он откровенно. – Если я выпью рюмку, то запью на несколько дней; а в моем положении это невозможно.
Скоро они стали видеться почти ежедневно, заходя по вечерам друг к другу, но оба предпочитали беседовать в «каморке». Там говорилось лучше и сиделось дольше. Иногда к Сомову заходили его земляки, братья Пилкины – добрые, простые ребята. Один был медиком, другой – студентом. Способности у Сомова были такие же блестящие, как и память. Еще в детстве он почти самоучкой выучился французскому языку и теперь знал французскую литературу так же основательно, как и русскую. Однажды, говоря о нелепости французских трагедий, он для доказательства отыскал в библиотеке том Расина и прочитал вслух две сцены, но при этом так коверкал язык, что Угаров не выдержал и разразился гомерическим хохотом. Смех этот подействовал заразительно и на чтеца, и часто потом, когда разговор принимал слишком мрачное направление, Сомов добродушно говорил:
– А что, Владимир Николаевич, не почитать ли мне что-нибудь по-французски?
Угаров от души полюбил Сомова и незаметно для самого себя подчинился его влиянию. Оба страстно следили за ходом крестьянского дела. Угаров приносил известия из официального мира, а Сомов поставлял заграничные брошюры и листки, наводнявшие тогда Россию всевозможными путями. В конце лета он с торжеством вынул из сундука первый нумер «Колокола» [110]. С каждым днем Сомов делался все радикальнее и