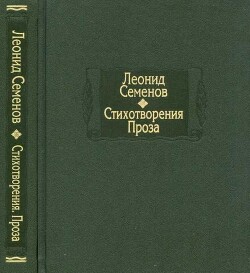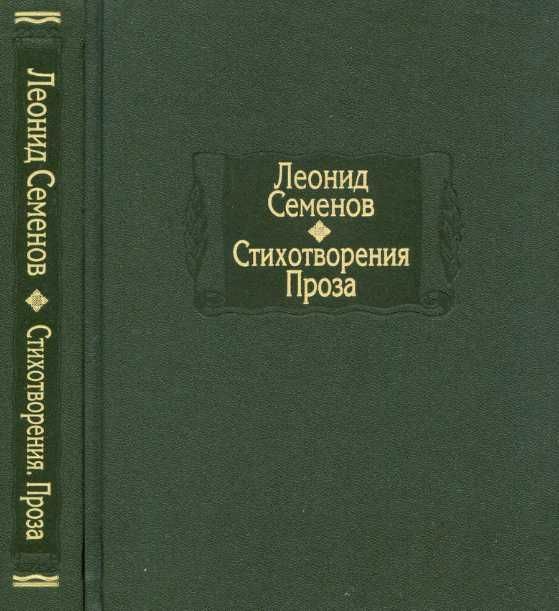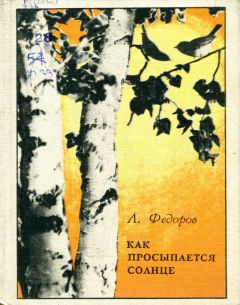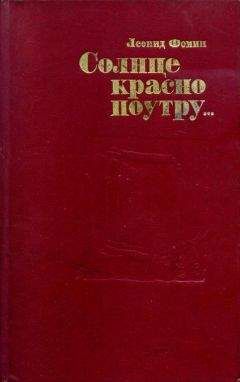Передо мной тонкая, прямая фигура девушки в белом... Я протягиваю ей руку. Но она глядит на меня так страшно раскрытыми, точно застывшими в испуге глазами, что рука опускается...
— Что? что-нибудь случилось? — спрашиваю я, озираясь кругом.
Она криво усмехается.
— Ничего, здесь политические.
В отделении тесно. На шесть мест тринадцать человек. Я четырнадцатый. Спят всюду — сидя, скрючившись, на лавках, на вещах, наверху. Поезд качается, и все дребезжит. Девушка стоит, прислонившись к косяку. Лицо у нее бледное, восковое, чуть трепещет при свете фонаря. Глаза серые в измученных синих орбитах смотрят по-прежнему с застывшим испугом. Она уступила место другим и ждет очереди.
— Я старая эсерка. Из Одессы. Ссылают в Архангельскую. Да, на пять лет... — отвечает она односложно, постыло на мои слова и не шевелится. Светлая косичка выпадает из-под платка. Она старается спрятать ее тонкой белой рукой. На лице нетерпеливые складки. Я хочу устроить ее удобнее.
— Не надо, не надо! — останавливает она раздраженно.
Мимо нас протискивается арестант из соседнего отделения, уголовный, и гремит кандалами. Они ходят все время, потому что около нас клозет.
Другого места нам нет. В клозете большое окно из офицерской, куда глядит все время солдат. Я взглядываю на девушку и не смею сказать ей, что я думаю о том, как она должна страдать здесь. Где уж тут думать об удобствах.
Убийца-интеллигент, безумно выпучив глаза, вдруг останавливается перед нами и шепчет свои безумные слова:
— Был... был... а теперь что? Теперь что? Теперь ничего. Каждый плюнь, толкни... и ничего. Я и говорю, ничего... был... был...
Девушка точно с болью отрывается от него и говорит:
— Тут есть один. Ссылают в Якутку. У него ни белья, ни денег. Считает себя, кажется, анархистом-коммунистом... Чем бы помочь?
— У меня есть белье! — предлагаю я, обрадовавшись движению.
— Так давайте.
Она тоже рада, и мы оба в тесноте на полу разворачиваем мой чемоданчик.
— Так нельзя, товарищи... — протягивает из угла низкий уверенный голос.
— Что нельзя?
— Солдаты не позволяют передавать. Еще отнимут потом. Тут можно передать незаметно, идите сюда, товарищи.
Мы повинуемся.
— Надо найти его узел. Скорее спрятать.
— Я найду! — говорит другая, подымая усталую, растрепанную голову. Все отделение вдруг оживает.
— Ах, вы не спите?
— Нет, я не сплю. Я все время так сидела, все смотрела.
— Я тоже не сплю. Странно это, чорт возьми! — говорит рядом со мной еврей и тоже помогает нам.
— Надо его будить. Что — он спит? — ворчит кто-то.
— Где его узел?
Рыжая девушка будит анархиста.
— Николай, Николай! Да проснитесь же! Вам белье дают. Надо спрятать.
Она вытаскивает узел из-под его головы, чтобы разбудить его, но голова, не прерывая храпа, падает на скамейку, точно оцепеневшая, и спит. Он совсем молодой, без бороды, без усов...
Я заговариваю о политике. Мне так много хочется рассказать им, узнать, что они? Но все точно удивленно глядят на меня и молчат. Мне становится неловко, точно я заговорил о покойнике в доме, где он лежит.
Ровный голос из угла пробует поддержать разговор. Но девушка нервно перебивает:
— А Левушка-то наш, кажется, спит?
— Тут ссылают мальчика-еврея... — поясняет она мне. — Так я смеюсь, что губернатор отошлет его назад к родным. Куда ему таких младенцев. Но он обижается, все Марсельезу распевает.
— Ему шестнадцать лет.
— Не шестнадцать, пятнадцать, и то врет. “Вчера, говорит, минуло”. А сам кораблики рисует. Мне вчера поднес и просил никому не показывать. Ну, вот и он!
Сверху свешивается огромная, золотая копна курчавых волос и светится в блеске фонаря. Лицо мальчика задорно хмурится.
— Вера, я вам задам! Что вы про меня рассказываете. Мало вам от меня влетело.
— Да уж стыдно. Деретесь, как кошка. Он мне все руки исцарапал! — жалуется девушка.
— А... а... а вы кусаетесь. Вцепились в меня, как филин; вот, смотрите, даже кровь шла...
Девушка грозит ему пальцем.
Мальчик скрывается и через минуту раздается сверху бодрое, нежное сопрано:
“Отречемся от дряхлого ми-и-ра,
Оттряхнем его прах с наших ног...”
Поезд гудит.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Четыре часа уже! — говорит мужчина в углу и закуривает папиросу, старательно пряча огонь от конвойных.
Мы все не спим, мы точно ждем чего-то и сидим, неуклюже, кое-как прижавшись друг к другу. Говорим тихо. Рядом с нами наши враги. Офицер в своем просторном и чистом отделении; солдаты на часах.
— Я уж не буду спать... — говорит кто-то.
— И я, кажется.
— Я тоже не буду... — отзывается молодой еврей против меня и долго кашляет.
— Опять кровь. Каждое утро кровь теперь. Чорт возьми! Что бы это значило? — он улыбается и точно рад этому.
— Ссылают в Олонецкую губернию... — поясняет он мне. — Это всего 300 верст прогуляться пешком из Петербурга. Недурно? А? Кашель, грудь, все это, впрочем, пустяки. Там только поправишься. А как вы думаете, ружье позволят иметь?
Я с удивлением гляжу на его бледное лицо с болезненно-грустной возбужденностью и на узкие руки с синими жилками.
— Да, охотничье, кажется, разрешают... — говорю я.
Он опять кашляет.
— На медведя пойду. Обязательно. Интересно. Я сам ведь южанин. Ничего кроме Тавриды не видел, а теперь увижу тундры, север, леса. Заманчиво, чорт возьми! Я, знаете ли, поэт в душе...
Удушливый кашель прерывает его и опять появляется кровь.
Другой мечтает, как он убежит из Якутки.
— Ведь это совсем легко. Теперь прямо в Китай через Манджурию, или в Японию через Владивосток... Теперь все так бегут.
Мужчина в углу усмехается:
— Теперь люди счастливы, когда попали на вечную каторгу. Уж, думают, спаслись. По нынешним временам лишь бы виселицы избежать, а уж там все равно... Таких поздравляют.
Все молчат и опять говорят.
В разговор вмешивается анархист. Он проснулся. Молодой рабочий южного типа с большим ртом и с горячими, быстрыми глазами. Почти отрок.
— Теперь новые бомбы, говорят, из-за границы прибыли. Говорят, совсем новая система. Вы не слыхали? Специально для каменных стен. Вот в Тифлисе был взрыв. Одна стена прямо, как есть, плашмя упала.
— Да, меленитные. Что ж это давно известно! — подсказывает еврей.
— Нет, то другие. Это, вы думаете, как в Варшаве. Нет. Это совсем новые.
— Может быть, адская машина?
Рабочий недоволен, что его перебивают, и чтобы показать, что он знает, о чем говорит, по пальцам перечисляет, какие бомбы существуют. Завязывается длинный разговор. Говорят об ударниках, о запалах, говорят скучно, детально о технике бомб и только, как кровавые пятна, мелькают в разговоре фразы о людях. Говорят, когда нужно показать действие снарядов.
— Студен Петров? когда кидал... вы знали его? Он сажен 20 отбежал, а потом кишки вывалились...
— Это какой Петров? такой черный, низенький?
— Ну да.
— Так как же, я его хорошо знал.
Рабочий молчит, точно доволен, что может говорить об этом так просто, равнодушно и был знаком с такими.
Теперь рассказывает о своем аресте.
— Меня привели в охранку. А там, знаете, как пройдешь коридор...
— Ну да! кто ж его не знает?!
— Так вот. А я уж, значит, вижу, что будет, решил молчать. Сам Лизков сидит у стола. — Ну, говорит, молодой человек, вы нам давно известны. Милости просим. — Я говорю: я возмущен, господин полковник. Прикажите меня отпустить. Я ничего не понимаю. — Ах, извините, вам тут не нравится, молодой человек?! Вам, может быть, пива угодно или зельтерской? Прикажите подать молодому человеку пива. — Я говорю: я пива не пью. Отпустите меня, господин полковник. Я все равно ничего не скажу. — Ах, молодой человек. Как так можно. За кого вы нас считаете?! Но, может быть, вы к пиву непривычны, желаете чаю, так можно и чаю. Помните, вот, скажите тогда на Тираспольской, как это было?.. — Я говорю: что вам от меня нужно? Я ничего не понимаю и ничего не буду отвечать. — Ну а как же так Черный Ворон? Смеется. Я молчу. Ну, долго так бился. Потом видит, что ничего не возьмет. Меняет вдруг сразу разговор. Ведите, кричит, в шпионскую. А это такая, знаете ли, комнатка, без окон, только лампочка наверху. Подходит жандарм. — Какую, говорит, угодно? Можно на выбор. Белую или черную?.. Я ничего не понимаю. А в руках у него, гляжу, такие как бы две палки резиновые.