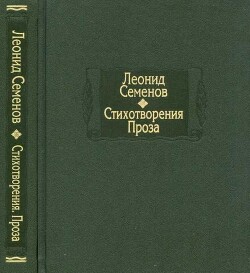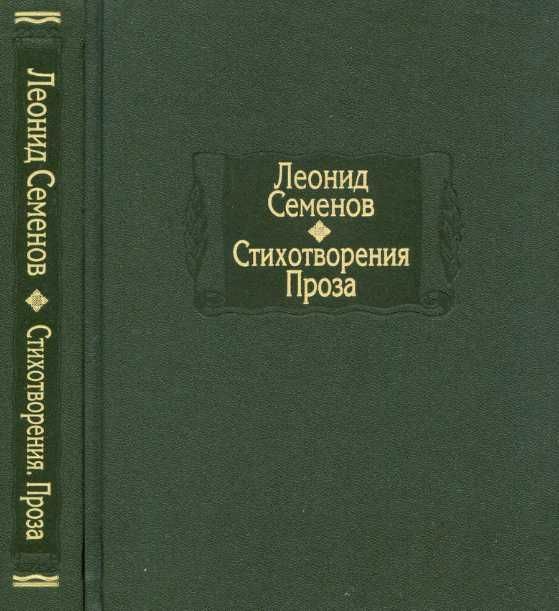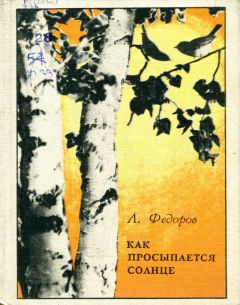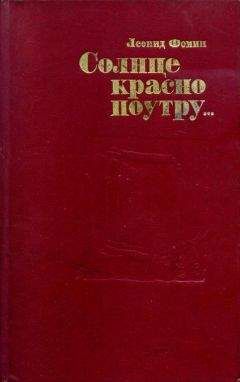Но Серафима, Серафима, что останется тогда от твоей мечты!?
Ужас охватывает меня, и я чувствую, как мозг леденеет.
Ведь и она, и она может быть там... — у казаков.
Нет, с этим я не могу примириться. Тогда проклятие, проклятие вам, истязатели и мучители!..
Я просыпаюсь...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я просыпаюсь, кажется, от крика... Кругом все то же. Только утро теперь. Поезд стоит. Перед окнами товарные вагоны и белый, холодный снег...
— Дурак! Болван! Колода какая-то, а не человек! Кто так считает! — несется из соседнего отделения.
Я вздрагиваю.
Офицер, чистый и выбритый, с манжетами на руках и с кольцом на мизинце, проверяет наши списки и появляется в дверях.
У нас суматоха. Все суетятся, укладывают свои вещи. Сейчас разделят по партиям. Все некрасивые, бледные в утреннем свете, измятые бессонницей, и жалкие.
— Чорт возьми этот кашель! — кашляет еврей и плюет на пол.
— Это моя кружка? — спрашивает мужчина из угла.
Анархист сидит насупившись.
— На... ков, На... нов, есть тут кто-нибудь такой? — выкликает офицер.
— Дурак, болван! ну кто ж так пишет! Кой чорт разберет тут фамилии! Девушка ищет гребенку и чуть не плачет, что не может ее найти.
— Левушка, это вы ее взяли...
Левушка храбрится и напевает вполголоса песню.
— Левушка, дайте гребенку!
— А зачем вам?
— Ну, я с вами тогда не буду никогда разговаривать...
Девушка сердится и, вдруг отвернувшись, прячет слезу.
— Н-ате! — смягчается Левушка и подает ей гребенку.
Нас делят на партии. Мне идти в этот город, другим дальше. Я стою у окна и смотрю на рельсы. Мимо проводят одну партию. Девушка в ней. Она узнает меня и кивает мне грустно головой. Она на спине, согнувшись, тащит свой узел. У нее дырявые перчатки и два пальца торчат из черной вязаной шерсти, на голове белый платок. Левушка рядом с широкополой шляпой на золотых кудрях. Еврей, выбиваясь из сил, волочит по снегу свой чемоданчик.
— Не могу! Я же не могу так! — жалуется он чуть не плача, — вы обязаны мне дать подводу. Я больной. Позовите офицера.
Солдат смеется и ногой подталкивает его чемоданчик.
Мужчина идет прямо и гордо. У него красивое бледное лицо с чуть заметным пушком на губах и с глубоко всаженными черными глазами. Он спокоен. Он ко всему привык и ничему не удивляется... Так и надо здесь.
Сейчас поведут и меня. Уже зовут. Я иду.
“Серафима! Серафима!” вот она с ясными, ласковыми глазами передо мной!
III. ТЮРЬМА
Я в тюрьме уже одиннадцатый месяц. Но ко всему можно привыкнуть... У нас своя жизнь, свои интересы... С утра шум, гам, крик... Все камеры раскрыты. Кулачные бои не переводятся. Мы давно разделились на оппозицию и центр и тузим друг друга. В потасовках обязаны участвовать все, кто и не хочет... Даже “дедушка”, и тот — наш боевой староста, низкий и крепкий старик, у которого два сына в тюрьмах, — и тот должен.
— Ну, дедушка, поборемся! Ну, дедушка, как вы? — пристают к нему — и он выставляет вперед, как мальчишка, свои крепкие, мужицкие кулаки и весь лоснится от смеха.
Есть карты, бывает и вино.
Сегодня утром молодой Лучков, конторщик с железной дороги, всегда серьезный и нравственный юноша, возмущен. Он давно уж не выносит Гудилина, который дразнит его скабрезными анекдотами, но сегодня даже не говорит, в чем дело.
— Что вист все? — спрашиваю я.
— Да какой там!
— В железную дорогу! С утра! — заявляет громко Степан, рабочий, тоже серьезный и красивый, белозубый парень, — а еще интеллигенты называются, интеллигенты! Иванов уж, сукин сын, небось штаны проиграл. Тьфу ты, ей-богу!
В коридоре образуется нечто вроде совещания.
Дернов, молоденький и розовенький помощник присяжного поверенного, сидящий за газетой, тоже волнуется. Ему стыдно за политических.
— Это уж в самом деле скандал! Надо будет их как-нибудь отговорить. Поднять что ли вопрос на общем собрании. Еще преферанс, я понимаю... А то в азартную... с утра...
— Не надо только так волноваться, товарищ! — кладет он руку на плечо рабочему.
— Да я-то что! Мне плевать на них. Тьфу ты! Ей-богу, и связываться не стану!
— А вы пойдите к ним! как раз получите! — процеживает Лучков и молчит. — Я такое услышал, что... лучше уж молчать. И сказать стыдно. Иванов ведь грубый и совсем ненормальный человек. С ним и считаться нельзя. У него запой, так что же с него спрашивать? Ругается как последний извозчик.
Лучков чем-то серьезно оскорблен и не слушает нас.
— Пойдемте! Попробуемте! — предлагает мне решительно Дернов, и мы идем.
— Надо хоть Данченку, мальчугана, отговорить! Я думаю, что мне удастся! — мечтает он.
— А то испортят мальчугана... А он такой славный.
Мы идем. Но в коридоре нас чуть не сбивает с ног целая толпа.
Оппозиция и центр вваливаются со двора. Летят снежки. Мы едва успеваем отскочить от них. Все раскрасневшиеся, мокрые от пота и снега хохочут. У Стряпушкина разорвано в драке пальто, у Боба — штаны. Его тащат за ноги и отчаянно тузят.
— Вали, вали! Бей его ребята! — кидается в свалку рабочий, но его отталкивают.
— Держись! Так, так! Наша, не сдавай!
— Что такое, господа, в чем дело? — выходит из камеры дедушка.
Дернов стряхивает с себя снег и ищет на полу пенсне.
— Господа, а общее постановление коммуны? Общее постановление — в коридоре не шуметь!
— Да, да, нельзя! — поддакивает дедушка и смеется.
— Вот и учись тут! — отходит сердито Лучков.
Все кубарем летят дальше и наваливаются друг на друга, на полу мокрые следы от снега.
Надзиратель, длиннобородый старик, тихо смеется. Все с гиком убегают на двор. Хлопают двери.
В камере у картежников, маленькой и мрачной, с одним высоким окошком с решеткой, темно и душно. В синем дыме вокруг небольшого столика опухлые, жадные лица. Здесь Митя — эсер, Иванов и Лозовский — железнодорожники. Гудилин — фельдшер. Красивый мальчик Данченко сидит, прижавшись к Лозовскому, и лихорадочно следит за игрой.
— Семерка пик!
— Девятка!
— Туз червей!
— Шестерка!
Слышны голоса. Брякают медные деньги.
— Ну, Данченко! — кладет ему руку на плечо Дернов.
— Валет червей мой! — протягивает тот руку.
— Данченко! Ну, мальчуган, а мы пришли за вами, мы вас ищем! — продолжает ласково Дернов и гладит его по волосам.
Тот, не стыдясь ласки, глядит ему прямо в лицо, у него серые глаза и длинные ресницы, а голос еще только ломается.
— Я сейчас, Иннокентий Иванович. Я только так! — говорит он, чуть вспыхивая, и смотрит в полученные карты.
— Ну, смотрите! Мы будем вас ждать!
Дернов еще некоторое время стоит и не знает, что сказать.
У Иванова лицо бледное, изрытое оспой, а губы толстые. Щека повязана.
— 20 копеек! — сипит он тихо, но опять проигрывает.
Выигрывает Данченко.
— Ну, господа, следите же! — призывает строго Гудилин и тасует карты. Он серьезный, сосредоточенный, как в священнодействии, с красивым лицом и с раздвоенной бородкой, как у Христа, нас не замечает.
Мы уходим...
В камере у дедушки своя “кофейная” коммуна. На столиках на двух спиртовых лампочках кипят кофейники. Дедушка вытащил сыр.
— Ну, господа, кофей готов! — заявляет он торжественно, — только чур не марать у меня. А стаканы уж пусть каждый сам моет.
Все тащат стаканы и накидываются на кофейник. Дерюгин несет индюшку и сухари.
— А! — приветствуют его.
Все голодные жадно накидываются на индюшку. Дерюгин режет. Каждому достается небольшой ломтик. Все не едят, а жрут, жадно, смачно. Боб обгладывает брошенную Дерновым кость... облизывают пальцы и губы.
— Ба! Да у вас тут кофе! — вваливается шумно Митя, — что ж это вы, черти, не скажете! Давай сейчас! у!
— Да уж ничего нет!
— Хватит! Давай! Он выливает себе гущу из кофейника и присаживается на постель.