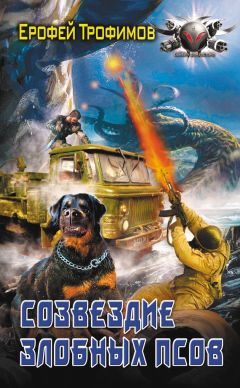его на Садовой и били шомполами. Потом он три дня лежал на кровати, ничего не говорил и умер. Доктор говорит: «Он задавился кровью, кровь набралась в легкие, они ему отбили легкие шомполами».
Мальчик умер. За что, я спрашиваю всех! Одна забота, чтобы жила жена, – она мне родила этого мальчика. Она мучилась со мною всю эту проклятую жизнь. Куда ей пойти, если я не заработаю рубль в день?
Тогда я пошел к офицерам и говорил: «Господа офицеры, у вас есть свой Бог и своя совесть, – за что вы убили моего мальчика?» – «Вышла небольшая ошибка», – сказал один, он был в лайковых перчатках. «Какая ошибка?» – спрашиваю я. «А ошибка та, что он еще не был большевиком, но очень свободно мог им быть. Иди, говорит, жалуйся Нахамкесу. Мы мертвых не воскрешаем. Чего ты пришел?»
Соловейчик прижал к глазам рукав рыжего пальто.
«Иди, говорит. Чего ты пришел? Чего ты пришел?» – «Господин офицер, – сказал я ему. – Счастливая ваша мать, что имеет такого замечательного сына». А сын, мальчик мой, разве это собака? Я спрашиваю всех. Разве на смерть мы его растили? Когда он кашлял коклюшем, я потел от страха, думал – он задавится мокротой, я считал каждый волос на его голове, мальчик мой…
Соловейчик заплакал. Вошла Добэ.
– Не плачьте, старик, – сказала она басом. – Может, ему теперь лучше, чем здесь на земле. Просите у Бога смерти. Чем так мучиться, лучше скоропостижно умереть. Как жить, когда у человека вынули сердце!
– Что Бог, Бог! – закричал Соловейчик. – Что вы пристаете ко мне со своим Богом! Где он был, когда били шомполами мальчика и Афанасий прибежал на двор и крикнул: «Соловейчик, Витю вашего убивают!» Зачем он, ваш замечательный Бог, позволил ему в тот день выйти на улицу? У Бога одна забота, – он спит и думает о вашем счастье, евреи. Только и вы, Добэ, и все живете, я вижу, на помойке и счастье увидите, как свою задницу, извините меня. Кому Бог продал ваше счастье и за какую цену? Чего он не сжег огнем тех негодяев? А они, эти добрые женщины, бегают по дворам и рассказывают о Боге. Тьфу!
Соловейчик плюнул.
– Уймись, старик! – закричала Добэ и отшатнулась. – Что ты зовешь несчастье на свою голову и на мой дом! Замолчи, старик!
– Я уже молчу, Добэ. Простите меня, вы хорошая женщина. Но как я могу спокойно разговаривать с людьми?
Добэ подняла с пола его шляпу, надела на голову, похлопала его по спине.
– Ну, как-нибудь мы доживем.
– Доживем, – скорбно согласился Соловейчик. – А теперь я пойду.
Он назначил Батурину встречу в пивной «Мамаша», куда он должен был привести двух девиц, и ушел, вытирая глаза коричневым клетчатым платком.
Батурин пошел бродить по городу, вышел к реке. Скрежетал разводной мост, и желтая вода мыла красные днища пароходов. Насупленный день враждебно смотрел на город из-за Дона, откуда дул ветер. Во взгляде этого дня была холодная скука.
Хотелось вечера, когда изгнанные краски – черная и золотая – ночь и огни – вернутся на землю. И вечер пришел. Он вяло протащился по улицам и переулкам, зажигая скупые огни. С первыми фонарями на Дону, прокашлявшись, прогудел морской пароход. По гудку, по его радостной дрожи можно было догадаться, что пароход отходит в Ялту, Севастополь, к городам, созданным для веселья, солнца, запахов моря, для прекрасных женщин.
Когда совсем стемнело, Батурин пошел в «Мамашу». В пивной уже сидел Соловейчик. Он был совсем некстати здесь, в своем длиннополом пальто, худой и жалкий, как Вечный Жид на плохой гравюре.
В слоеном дыму пылали лампы, сияли рожи грузчиков с щетинистыми рыжими усами. Густой мат с размаху хлопал входивших по груди. Пиво пахло кисло и слабо, – тоже, казалось, некстати здесь, где обстановка требовала крепчайшей водки, горячих пирогов и чугунных табуреток. Батурин заказал Соловейчику яичницу и чай, себе взял пива.
Соловейчик вытащил из кармана замусоленную бумажку и шепотом прочел фамилии всех американцев, живущих в Ростове. Пиррисона среди них не было.
– Было еще двое, так те утекли, – сказал он с сожалением. – Одна у нас с вами надежда на этих девиц. Они сейчас прибегут.
Пивная была с эстрадой. На эстраду вышел конферансье в визитке, в зеленом вязаном жилете и широких брюках. Он поддернул брюки, равнодушно посмотрел на публику, поковырял в зубах, сплюнул и вдруг закричал надсаженным голосом:
– Удивительно приятная публика сегодня собралась! Что? Здрасте, здрасте. Гражданин в картузе за крайним столиком, что вас давно не видать? А? – Конферансье приложил ладонь к уху: – А? Что? В тюрьме сидели? Очень рад, очень рад. Следующий номер-р-р программы – цыганский хор Югова!
Цыганки вышли, виляя бедрами.
Пивная приветственно загудела. Хор грянул:
Эх, пьет-гуляет
Наш табор кочевой.
Никто любви не знает
Цыганки молодой!
Приплясывая в такт, к столику подошла полная блондинка с круглыми, одинаково наивными и порочными глазами. Она толкнула Соловейчика и показала глазами на Батурина:
– Папа, этот, что ли?
– Садись, Маня. Этот.
Маня протянула Батурину пухлую руку, сняла шляпу, поправила челку.
– Ну, угощайте, красавец, – сказала она хрипловато.
– А где Зина?
– Зинка вон она идет.
Батурин оглянулся. За спиной стояла высокая девушка в очень коротком платье. Карминные губы ее дрожали. Свет ламп был чудесен в ее капризных зрачках. Она оперлась локтями о спинку стула Батурина, – он видел рядом ее черные блестящие волосы, высокую чистую бровь и матовый лоб. Зинка потрясла стул и сказала властно:
– Подвиньтесь!
– Нанюхалась марафету, дура, – сказала Ма- ня. – Опять попадешь в район.
– Не попаду-у, – протяжно ответила Зина и села рядом с Батуриным. – Это вы тот чудак, про которого говорил папаша?
Батурин кивнул головой.
– Да он гордый! Закажите пиво и рассказывайте.
Хор снова грянул:
Эх, пьет-гуляет
Наш табор кочевой.
Никто любви не знает
Цыганки молодой!
Зина захохотала, схватила Батурина за руку и пьяно зашептала:
– Дайте мне посмотреть на вас. Ну, не сердитесь, ну, посмотрите на меня, – разве я такая уродка? Ну, посмотрите же, – она дернула Батурина за руку. – Я не пьяная, я марафету нанюхалась, – лицо у меня холодное, потрогайте, а в глазах ракеты, ракеты… Ну, посмотрите же вы, несчастный жених!
Батурин поднял глаза. Он приготовился увидеть смеющееся пьяное лицо и отшатнулся. В упор смотрели темные глаза, полные, как слезами, тревогой, упреком. Дикой тоской ударил этот взгляд в сердце. На секунду все поплыло. Батурин качнулся.
– Вот вы какой! – сказала она медленно со страшным изумлением, тем неясным, почти