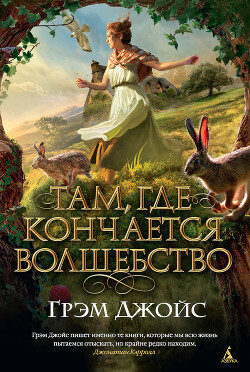– Мотыльки! – не сдержалась я.
Уильям оторвался от пересаживания колокольчиков и хмуро поглядел на меня. Потом продолжил. В итоге работа была проделана так чисто, что только очень пристальный осмотр грунта смог бы выявить следы захоронения. Хрустнув суставами, Уильям поднялся с колен и принялся отряхивать руки. Все было кончено. Скорбящие начали расходиться, и их фигуры постепенно таяли среди деревьев.
Уильям подошел ко мне, по-прежнему отряхивая руки. От долгого стояния на коленях у него, наверное, затекла нога, и он немного прихрамывал.
– Ты что, не знаешь, как Мамочка с тобой разговаривает?
– О чем вы? – спросила я.
– Я, видно, зря тут распинаюсь. Ты вообще хоть что-нибудь знаешь?
– Оставь ее, – вступилась Джудит. – У нее горе. – Она взяла меня за руку. Ее рука была теплой. – Я отведу тебя домой и посижу. Ты все равно сегодня не заснешь.
Я оглянулась в поисках Уильяма и остальных. Они ушли, исчезли средь деревьев. Ни звука, ни малейшего следа всех тех, кто несколько секунд назад еще толпился у могилы. Все испарились, словно духи. И свечи испарились. Побеги колокольчиков слегка покачивались как ни в чем не бывало. И даже мотыльки угомонились. Осталось только тихое поскрипывание старого дуба над Мамочкиной могилой.
Это поскрипывание будет со мной всегда.
Джудит и правда отвела меня домой, но я уговорила ее не оставаться – сказала, что хочу побыть одна. Мне нужно было многое сделать, к тому же мы слишком отдалились друг от друга. Она меня дежурно поцеловала и ушла.
Оставшись в одиночестве, я первым делом зажгла лампу и вытащила блокнот. Включила тихо «Зеленый лук», на повторе. Села за стол и принялась писать. Я записала все. Все, что мне рассказала Мамочка о тех, кого я знала и не знала. Сначала я записывала просто имена, и список растянулся на несколько страниц. Потом я передумала и принялась писать все заново – уже развернутыми предложениями, складывавшимися в абзацы.
Я начала с тех, что повыше положением, и постепенно спускалась вниз. Ох, у меня и было что сказать! И сколько!
Я просидела всю ночь в компании с «Зеленым луком». Луна, входящая в последнюю четверть, светила холодно и ясно. Поверх негромкой музыки слышно было, как переухиваются совы. Как гавкает самец лисицы и как покашливает барсук. Я исписала три блокнота убористыми мелкими каракулями. Вот уж не думала, что смогу так долго писать без остановки. Я прерывалась, только чтобы помассировать ноющую кисть или сходить по нужде. Писала, когда природа стихла, продолжила писать, когда послышалось первое пение птиц, и не остановилась, когда умолкли утренние хоры.
Моя ручка шепталась со страницей. Она ей изливала душу. И хоть я писала, писала яростно и словно в лихорадке, чиркая ручкой по бумаге, мне чудилось, что я бегу, скачу, как заяц, в припадке неожиданной свободы, и лапы мои оставляют отпечатки на земле и на траве, слагающиеся в знаки, не требующие объяснений.
По окончании моего графоманского марафона я вырубилась прямо в кресле и пробудилась от стука в дверь. Стучала Грета. Я еле поднялась.
Она опять смеялась, черт ее раздери.
– Вот это да, Осока, вид у тебя, словно только что проснулась.
– Я только что проснулась.
– Но на дворе давно уже день.
– Да неужели. Тогда входи.
Я вспомнила, что на столе лежат блокноты. По-быстренькому их забрала и спрятала на потайную полку за банкой из-под чая, рядом с секретным хранилищем Мамочкиных волос и ногтей.
– Ты чем тут занималась? – слепила меня улыбкой Грета. Я что-то промычала, а она спросила: – Знахарством?
Не знаю, что она имела в виду, но я не собиралась продолжать беседу в том же духе. Внутри себя я все еще спала, свернувшись клубком. К тому же мне нужно было морально подготовиться к предстоящим фальшивым похоронам. Короче, я спросила, что привело ее ко мне.
– Не знаю даже, как сказать, – промолвила она.
Я сразу же решила, что ее послал Чез замолвить за него словечко. Сейчас она мне скажет, какой он достойный человек и как это на него не похоже. Что вышло какое-то чудовищное недоразумение.
– Смелей, – сказала я.
– Ну ладно. Хорошо. Хватит ходить вокруг да около. Вот сейчас прямо возьму да и скажу.
– Грета!
– Все. Я беременна. Хочу избавиться от ребенка.
Я сразу же проснулась. Ну я и дура. И где мое хваленое умение видеть людей насквозь? А эта коза тоже хороша – сияет передо мной, как рождественская елка, и говорит, что хочет сделать аборт.
– Выходит, месячных у тебя в последний раз не было? Какой срок? Только не ври. – Все это было сказано на автомате.
– Недель десять-двенадцать, – ответила она.
А я все думала: ну хоть сейчас ты перестанешь улыбаться?!
– От Чеза? – спросила я, решив, что тогда просто прокляну его.
Но она, как ни странно, замотала головой.
– Нет?
– От Люка.
– Уверена? Ты же говорила, что Чез, вроде… тоже твой парень.
– Говорила. Скорее, любовник.
– Тогда откуда ты знаешь?
– Осока, женщина всегда знает, кто отец ребенка.
Ее улыбка уже не лезла ни в какие ворота и изрядно меня бесила. Небось Грета исходила из каких-то мистических соображений. У женщин всегда так с определением отцовства, и в большинстве случаев это бред собачий. В подобных ситуациях Мамочка говорила, что себе верить нельзя и сердцу своему тоже верить нельзя, потому что сердце говорит нам только то, что мы хотим услышать. Я знала, что верить здесь можно только анализу крови. О чем и не преминула сказать Грете. Она хотя бы перестала лыбиться. Просто не передать, как я обрадовалась.
– Ты в чем-то, Осока, самая мудрая из нас, а в чем-то малое дитя, – резко отозвалась Грета. – Скажи, ну как от Чеза может родиться ребенок, если у него на этом фронте проблемы?
– Что? – в совершеннейшем шоке переспросила я.
– У него не встает. Эрекции не бывает, понимаешь? Я уж не знаю, как еще проще объяснить.
Мне поплохело. Не может быть. Я встала с кресла и повернулась к Грете спиной. Пыталась скрыть замешательство за кучей бессмысленных вопросов о Люке. Знает ли он? Как среагировал? Хотя ответы почти не слушала.
Люк знает, отвечала она, и хочет сохранить ребенка. Но у него уже есть двое детей от разных женщин в коммуне и еще два отпрыска в других местах. Он чудный, но безответственный, пояснила она; порядочный, но слабый.
Ведь право выбора в конечном счете остается за женщиной. Я с этим согласилась на все сто. Так было и будет всегда. Потом она сказала, что избавляться от ребенка не хочет, но вынуждена, поскольку жизнь в коммуне ее достала. Она не может больше смотреть на наркотики, устала от бесцельного существования, измучилась от вечной нервотрепки с разными партнерами, а как ее достали хиппаны-парни, ужасно обращающиеся с их бесконечными «цыпочками» и детенышами, даже не пытаясь участвовать в процессе или выполнять простейшие обязательства!.. Чтобы отрастить патлы, большого ума не надо, сказала Грета. Ей же мечталось о другом. Конечно, она не собиралась подстраиваться под существующий миропорядок и тянуть эту вечную лямку, о нет. Она хотела построить то, что называла «новым этосом», – только уже не из аутсайдеров, а из тех, кто «внутри, но против». Ее течение обещало быть радикальным и смелым – такая новая богемная волна, вытаскивающая на свет божий все, что есть лучшего в людях.
Речь удалась на славу. Грета вещала, прямо как Жанна д’Арк. И кстати, за все это время ни разу не улыбнулась. Мне было правда очень интересно, но я никак не могла отвлечься от того, что она сказала про Чеза.
– Эй, ты со мной? – окликнула меня Грета. – По-моему, ты очень далеко. Так я могу рассчитывать на твою помощь или нет? Только не надо говорить, что ты не умеешь это делать.
Я даже не спросила, откуда ей известно о моих способностях. А ведь это была довольно опасная информация. Многие женщины в деревне и окрестностях, конечно, знали, чем занималась Мамочка, и наверняка догадывались, что я переняла ее умения. Но даже со своими мужчинами делились редко. Держали в полутайне, если так можно выразиться. Короче, я без лишних выяснений приступила к делу.