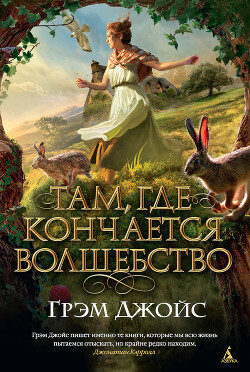– И это ты называешь извинением? – крикнул он вслед, но я не обернулась и прямиком направилась в дом. Спросила какую-то женщину, где Грета, и поднялась наверх, куда меня направили.
Грета лежала на матрасе прямо на полу, под головой высились подушки. Она читала книгу, выглядела чуть бледнее обычного, но чувствовала себя, по-моему, не так уж плохо. В комнате зверски воняло благовониями. Она подняла взгляд и, выдав слабое подобие своей немыслимой улыбки, сказала:
– Привет.
Я села на пол рядом и взяла ее за руку:
– Ты как?
– Нормально. Только все время тошнит.
– Пройдет. Пей побольше воды. И палочки эти выкинь. Все от неправильных запахов. Я принесла лимонный чай с вербеной…
– Чай благодати, – молвила Грета.
– Так Мамочка его и называла. А вот смотри: сейчас я подвешу над твоей кроватью веточку, – к стене булавкой была приколота открытка, я насадила на булавку еще и веточку вербены, – и ты забудешь про ночные кошмары.
– Откуда ты знаешь про кошмары?
– Что за дурацкий вопрос!
Грета заплакала.
– Ну перестань. Ты приняла решение, теперь крепись.
Я говорила словами Мамочки. Она всегда считала, что там, где не было страдания, там и решения не требовалось. Оставив Грету, я пошла на кухню приготовить чай с лимоном и вербеной.
Когда я возвратилась с чаем, она уже не плакала и выглядела пободрее. Во всяком случае, чай приняла с радостью.
– Теперь скажи, как ты, – произнесла она. – Отвлеки меня от горестных мыслей.
– Услуга за услугу, – сказала я и показала ей письмо.
Она прочла, прищурилась, нахмурилась:
– Это из местного отдела здравоохранения. Тут говорится, что тебя направляют на психиатрическую экспертизу. О боже! Да как они могут?!
– Поэтому я и принесла письмо тебе, Грета. Ты же у нас изучала право и все такое.
– Выходит, могут, – задумчиво произнесла она. – Видимо, так оно и делается.
– Что будет во время этой экспертизы?
– В мешок тебя засунут и бросят в реку, – сказала Грета. – Фигурально выражаясь.
– Фигурально выражаясь, – тихо повторила я.
Грета мне улыбнулась, но как-то жиденько.
32
Той ночью я пошла на Мамочкину могилу, не на фальшивую, а настоящую – ту, что в лесу. Привалилась спиной к старому дубу и разговаривала с Мамочкой. Луна светила так ярко и так ясно, что, прищурившись, я видела Мамочку: она сидела, так же привалившись к соседнему дубу, болтала со мной, купалась в серебряном свете, вбирала в себя Луну.
Наверно, в тот момент я немного спятила и не могу с уверенностью сказать, видела это или просто вспоминала. А может, вспомнила и потому увидела. И разве память так уж сильно отличается от воображения, если все равно никто не может мне сказать, происходило это на самом деле или нет? Мамочка говорила со мной о пении, о том, что я прирожденная певчая и что негоже прятать мой талант.
– Возьми хоть малышей, – сказала она. – Что они делают, как только вылезают?
– Орут, – сказала я.
– Вот-вот, они орут, потому что им больно смотреть на этот мир; они страдают, потому что свет им режет глаза. Но вскоре они перестают орать, боль отступает, и они начинают видеть только красоту, еще не зная, что это. Когда ты поешь, то чувствуешь то же самое.
– Страдание?
– Да. Ты орешь, но тебе становится легче. И постепенно боль отступает. Ведь песни все о боли. Конечно, бывают и веселые песенки, но даже в них, если прислушаться, есть страдание. Исправить песней ничего нельзя, но можно сделать так, что боль отступит и ты увидишь, что за ней. И коль ты уродилась такой певуньей, так и дари это людям.
Я ей сказала, что поняла. Или мне показалось.
Но Мамочка не умела долго оставаться серьезной. Она поднялась на ноги и скинула туфли:
– Давай, Осока, подключайся. Один последний танец перед тем, как я уйду. Наш маленький последний танец.
Я тоже встала и в лунном свете, одаривающем леса и орошающем землю, захлопала в ладоши, отбивая ритм, и спела развеселую «Мэрроубоунз», ее самую-пресамую любимую песню. Она задрала юбку до колен и танцевала, танцевала – а лицо ее сияло от счастья и шаловливой радости, и я с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться.
– Ты только погляди на эти старые кости! – кричала Мамочка, размахивая ногами посреди колокольчиков. – Гляди, как старый мешок с костями танцует под луной. И что нам за дело, как о нас подумают люди!
Она плясала и скакала, а я все хлопала в ладоши и заливалась смехом. Луна светила прямо на нее. Казалось, Мамочка ее звала, а Луна ее напитывала. Луна рассеивалась от нее. Луна была ее покровом.
В следующее мгновение я осталась одна, под деревом, где находилась ее могила, а Мамочка пропала. И я не знала, то ли вызвала ее тень, то ли припомнила что-то случившееся раньше, – я только знала, что такие рассуждения до добра не доведут.
В ту же ночь кто-то осквернил могилу Мамочки на церковном кладбище. Разбили надгробный камень, написали на нем гадости и раскидали цветы. Мне рассказала об этом малознакомая женщина из местных. Она говорила от всего сердца, с искренним сочувствием. Она не понимала, кем надо быть, чтобы пойти на такую низость. Ведь Мамочка всем помогала. Не кажется ли мне, что это дело рук длинноволосой шантрапы с фермы Крокера? Я ей ответила, что нет, они хорошие люди и ни за что такого не сделали бы. Она предложила собрать народ и привести могилу в порядок. Я поблагодарила ее, но заверила, что справлюсь сама.
Хотя дел у меня и без того хватало. Грета посоветовала найти людей, которые дали бы мне хорошую характеристику во время экспертизы. Недолго думая, я отправилась к Биллу Майерсу. Они с Пегги меня усадили, и мы имели длинную беседу, начавшуюся с выражения негодования по поводу осквернения Мамочкиной могилы. Билл аж позеленел от злости, сказал, мол, если найдет паразитов, задаст им такую взбучку, что мало не покажется, и Пегги присоединилась к его угрозам. Они спросили, ходила ли я уже на кладбище, а я призналась, что нет.
Но их сопереживания хватило ровно на это. Когда речь зашла о письме и предстоящей экспертизе, Билл заявил, что не может выступить в мою защиту:
– Осока, мне приходится лавировать между крокодилом и львом. Друзья полицейского все рано или поздно узнают, что верность закону для него дороже дружбы. Поэтому, Осока, у копов нет друзей. Мы вынуждены держаться особняком.
Ей все это неинтересно, сказала Пегги, ей просто нужно знать, вступишься ты за нее или нет. Я не могу, ответил Билл, а вдруг всплывет, что ей грозит уголовное преследование? Мне лучше там даже не появляться. Значит, решил отсидеться, презрительно проговорила Пегги. Называй это как хочешь, но таково мое теперешнее положение. Тебе Мамочка Каллен жизнь подарила, упрекнула его Пегги, когда ты только появился на свет. Какое отношение к этому имеет Осока, поинтересовался Билл. Она тебя вернула из мертвых, настаивала Пегги.
И, повернувшись ко мне, Пегги рассказала историю, как местный доктор уже поставил на Билле крест, но кто-то втайне догадался послать за Мамочкой. Она пришла, плюнула Биллу в горло каким-то травяным маслом – я знала, что это за масло, – потом губами высосала это масло вместе с пробкой из мокроты и слизи, окунула младенца в ледяную воду, намазала ему грудь горчичной притиркой, и он вернулся из мертвых – и вот он стоит живехонек, гора горой.
Билл призадумался. Я чувствовала, что между ними назревает ссора – последнее, чего я добивалась. Я поблагодарила парочку и встала. Мне показалось, Билл расстроился.
Пегги вышла со мной в прихожую.
– Они хотят упечь меня в психушку, – сказала я, – как Мамочку.
– С той только разницей, – заметила Пегги, – что Мамочка тогда действительно на некоторое время свихнулась. Мне мамка моя рассказывала. Мамочка потеряла мужа и сына. Она таскалась по мужикам как оголтелая – лишь бы зачать. Ей было не важно от кого. Но это место – просто ад, чего там говорить. Ты знаешь, что Мамочку там стерилизовали?