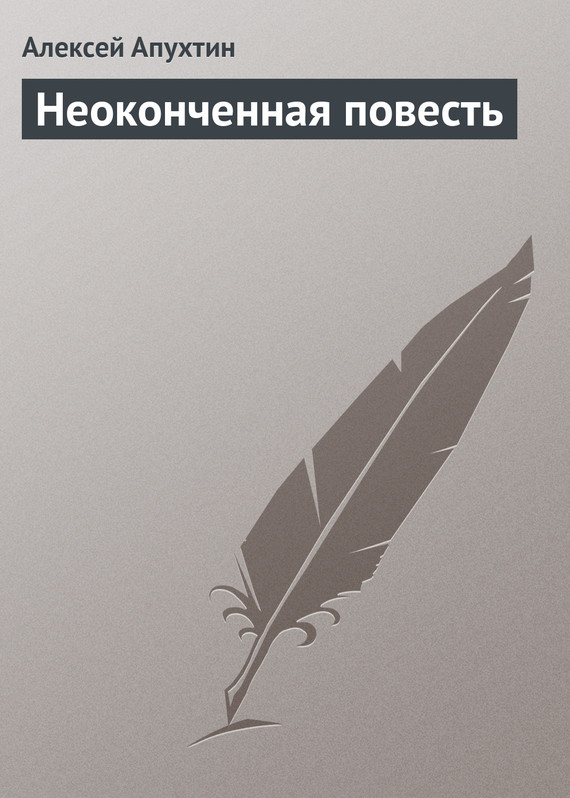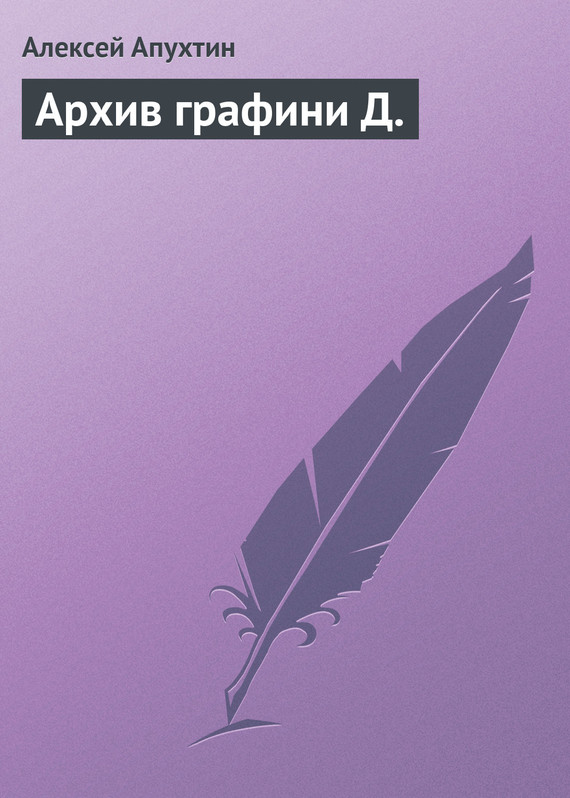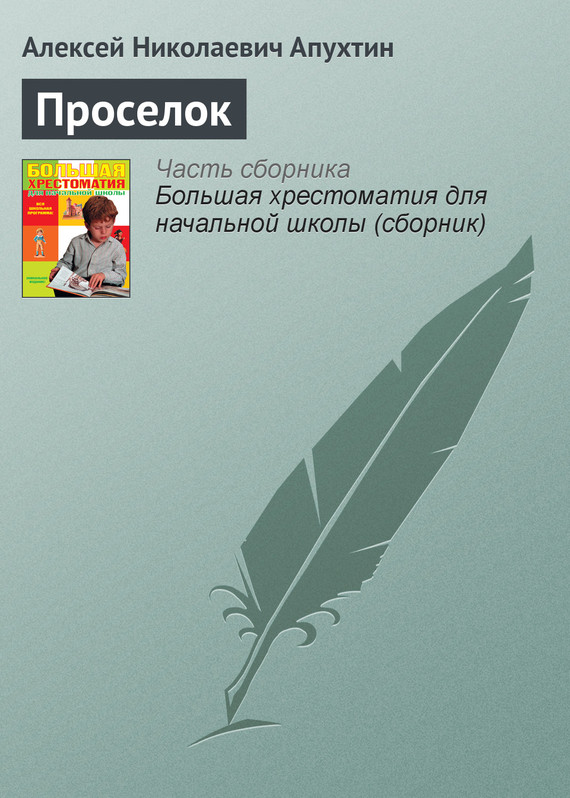не казалось Угарову так красиво и так ненавистно. «Тем лучше», – сказал он сам себе и стремительно бросился вниз, в швейцарскую, к удивлению и негодованию изящной публики, поднимавшейся по лестнице сплошной стеной. «Тем лучше», – сказал он громко, вскакивая на извозчика.
Приехав домой, он послал швейцара за Миллером и объявил Ивану, что на следующее утро они едут в Угаровку.
– Это никак невозможно, – сказал Иван, почесав затылок, – у нас все белье в мытье.
– Ну, возьми белье от прачки…
– Как же я возьму белье? Ведь оно будет совсем сырое, а прачка деньги потребует, как за настоящее.
– Делай как знаешь, но завтра в одиннадцать часов утра мы выезжаем.
Иван еще продолжал ворчать, когда вошел Миллер.
– В чем дело?
– Я получил важные известия из деревни и завтра уезжаю.
– Надолго?
– Может быть, навсегда. Будь так добр, сдай кому-нибудь мою квартиру, – срок контракта через полтора года, – и продай мебель.
– Ну, за нее много не дадут.
– Это мне все равно. Я готов даже отдать ее даром хозяину, если он уничтожит контракт. Как ты думаешь, он согласится?
– Конечно, согласится, но это будет слишком глупо. Завтра поговорим с ним вместе.
– Я завтра уезжаю, в одиннадцать часов.
– А отпуск взял?
– Нет, не взял.
– Так как же ты уедешь без отпуска? Поезжай послезавтра.
– Нечего делать, придется отложить. Впрочем, мне надо еще заплатить кое-какие счета; поеду послезавтра.
– Ну вот, оно так-то будет лучше, – сказал Иван, любивший подслушивать. – По крайности, белье просохнет.
Миллер начал ходить взад и вперед по гостиной в глубокой задумчивости. Потом он зажег свечу и обошел все комнаты, соображая что-то.
– Ну, прощай, завтра утром зайду.
А Угаров отворил все ящики своего письменного стола и начал перечитывать и рвать письма, накопившиеся у него со времени приезда в Петербург. Письма Марьи Петровны он хотел сохранить и откладывал в особую шкатулку. Вдруг он вздрогнул. Ему попалась под руку единственная записка, полученная от Сони: «Сегодня в девять часов у нас играют квартет Бетховена, который вы так любите. С. Б.» Он скомкал эту записку и хотел изорвать ее с ожесточением, но рука его как-то машинально бросила ее в шкатулку. «Изорву потом», – оправдывался он перед собою.
В первом часу ночи раздался звонок. Вошел Миллер.
– Як тебе по делу. Согласен ли ты на следующие условия: квартиру ты передашь сейчас же, за мебель тебе дадут половину того, что она тебе стоила, но только деньги ты получишь через год.
– Как же мне не согласиться? Я лучших условий не желаю.
– Ну, в таком случае дело кончено. Твою квартиру я беру для себя.
Миллер ушел и через минуту вернулся опять.
– Еще забыл сказать одно условие. Завтра в пять часов ты должен у меня обедать и, если тебе все равно, надень фрак.
На следующее утро Угаров прежде всего отправился в министерство. Горич устроил ему отпуск в несколько минут, и хотя спросил о причине его внезапного отъезда, но ему показалось, что Горич знает все. Эта мысль была так ему невыносима, что он поспешил уйти и даже не сказал о дне своего отъезда, чтобы избежать дальнейших свиданий с Горичем. Потом он отвез в магазин Овчинникова остававшиеся у него книги. Сомов очень внимательно сосчитал их, возвратил Угарову залог и попросил расписаться в получении денег.
– Что же, Орест Иваныч, – спросил Угаров, расписываясь в большой книге, – и вы тоже думаете, что при мне надо остерегаться, как бы не сказать чего-нибудь лишнего?
– Нет, я этого не думаю, – отвечал, потупив глаза, Сомов, – потому что я не считаю вас способным на какую-нибудь подлость. Но только опять и то правда, что видеться нам бесполезно, потому что убеждения у нас слишком различны. Да и дороги наши разные, – прибавил он каким-то особенно грустным тоном и поспешил перейти к какой-то толстой даме, которая уже давно приставала к приказчику, чтобы он дал ей «Education maternelle» [186] с картинками.
Хотя Угаров никогда не нуждался в деньгах, но в течение трех лет у него накопились кое-какие мелкие долги в магазинах. Заезды в эти магазины, а также к портному заняли у него много времени. Счет у Дюкро оказался на тысячу рублей более, чем он предполагал, так что половину долга он обещал выслать из деревни. Мадам Дюкро очень просила этого не делать и выразила готовность ждать хоть десять лет. От Дюкро Угаров зашел сделать прощальный визит дядюшке. Иван Сергеевич Дорожинский сидел на своем обычном месте, но в другом, более широком кресле, перенесенном из спальни и обложенном подушками. Он простудился и уже несколько дней не выезжал из дома.
– Впрочем, это вздор, – сказал он бодро, – доктор обещал через три дня меня выпустить.
Но, взглянув на его осунувшееся лицо и тускло-равнодушные глаза, Угаров подумал, что вряд ли дядюшке придется когда-нибудь выезжать из дома.
Афанасий Иванович, сидевший также у дядюшки, весь сиял каким-то особенным ореолом.
– Как я рад, мой дорогой, – сказал он Угарову, – что мы вместе едем завтра, но это чистая случайность. Я должен был уехать сегодня и остался только оттого, что сегодня у нас в клубе стерляжья уха.
Хотя он слегка подчеркнул слова «у нас в клубе», но Угаров этого не заметил, а потому Афанасий Иванович поспешил разъяснить их:
– Ведь я в прошлую субботу избран в члены Английского клуба.
– И прекрасно прошел, – сказал Иван Сергеевич.
Впрочем, избрание Афанасия Ивановича прошло не без протеста. Во время баллотировки кто-то сострил, что баллотируется «ренонс» [187], и эта шутка доставила Афанасию Ивановичу несколько черных шаров. Тучный и красивый генерал, с глазами навыкате, уже выпивший три стакана холодной жженки, подойдя к ящику Дорожинского, воскликнул:
– Какой это Дорожинский? Тот, что всем представляется? Налево ему!
Старшина, шедший за генералом с тарелкой шаров в руке, сказал бесстрастным голосом:
– Предлагают Иван Сергеевич и Петр Петрович.
– Ну, в таком случае, нечего делать, положу направо. Пускай себе представляется на здоровье.
В день баллотировки Афанасий Иванович не имел права обедать в клубе, а просидел несколько часов в своем номере у Демута в таком волнении, что даже не мог обедать. В одиннадцатом часу ему прислали из клуба членский билет. Афанасий Иванович хотел сейчас же ринуться в клуб, но, не желая выказать слишком большой торопливости, остался дома. Более всего радовала его мысль, что он каждую минуту может поехать в клуб. Как скупой рыцарь, он мог сказать:
С меня довольноСего сознанья… [188]
Зато каким наивным самодовольством, каким скромным торжеством дышала вся фигура Афанасия Ивановича, когда на другой день, на паре великолепных рысаков, он подъезжал к Английскому клубу. Он испытывал такое чувство, как будто въезжал в одно из своих имений. Ему казалось, что даже часть Демидова переулка принадлежит ему [189]. Он приехал за час до обеда, в клубе еще никого не было. Афанасий Иванович