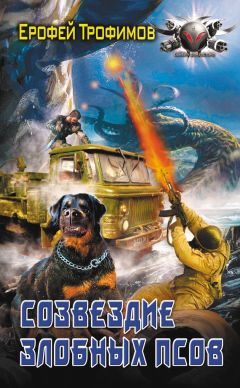темных и сверкающих зрачках.
– Не сердитесь? – спросила она, всматриваясь в его лицо, будто стараясь запомнить его навсегда. – Видите, какая я прилипчивая, не даю вам покоя.
Батурин закрыл ее ладонями свои глаза, как делают маленькие дети, и ничего не ответил. Валя спросила чуть слышно, одними губами:
– Ну что, что, что, мальчик мой милый?
Волнение его могло окончиться освежающими слезами, но резким напряжением он сдержал себя. В его волнении вдруг появилась неясная мысль, – что-то было связано с этими словами «мальчик мой милый». Во сне ли, в памяти ли детских лет, когда была жива его мать, но где-то он слышал эти слова.
Они прошли на набережную, серую от ночного света. Это был отблеск воды, звезд; возможно, горячий ветер тоже излучал неясный свет.
Валя села на чугунный, ржавый причал. Батурин опустился на теплые камни у ее ног. Она говорила, наклоняясь к нему, не отпуская его руку. Терпко пахла колючая трава; ржавый подъемный край, казалось, слушал голос Вали. У каменной лестницы качались, кланяясь морю, старые шлюпки.
– Теперь все, все долой, – говорила Валя. – У меня нет ничего позади, – ни отца, ни ребенка, ни асфальта. Я новая. Вы слышите меня? Вы должны знать, как это случилось. Я два раза была больна, два раза травилась, – все спасали. Я думала – зря спасают, все равно свое сделаю, а теперь я готова ноги целовать тем, кто меня спас. Доктор такой рыжий, мрачный и такой милый, из «скорой помощи», он мне сказал: «Если не себе, так другим пригодитесь», а я его выругала за это так скверно…
Валя замолчала. Батурин осторожно тронул ее холодные ногти.
– Ну, говорите же!
– Я… – Валя вздрогнула. – Я… дочь врача, я училась в гимназии. Отец бежал от голода на юг, в Ростов, взял меня. У меня тогда уже был, у девчонки, ребенок. Мальчик… ему было полтора года, он не умел говорить. В Ростове мы прожили долго. Было плохо, трудно. Я не хотела дальше никуда ехать, а потом отец заболел сыпняком. Через неделю мальчик заболел скарлатиной и положили их обоих в один госпиталь на Таганрогском проспекте. Там лежали солдаты, детей почти не было. Я жила в палате, где был мальчик. Спала на полу, вся во вшах. Если бы вы слышали, как он плакал по ночам, маленький, у вас бы разорвалось сердце. А кругом матерщина, канонада, – красные подходили к городу, – кому он нужен был, мальчишка, кроме меня. Даже врачи его не смотрели.
Валя взяла Батурина за подбородок, подняла его голову. Он снизу смотрел в ее лицо. Она плакала не скрываясь, не сдерживаясь; слезы капали на его волосы.
– Ну скажите, зачем это? – тихо спросила она. – Зачем пропал маленький? Вы один поймете, как мне было горько.
Потом началась эвакуация, больных стали вывозить. Некоторые шли сами, падали с лестниц, разбивались. Я бросилась в город, упросила хозяйку пустить мальчика: тогда скарлатины и сыпняка боялись хуже чумы. Не знаю почему, но она согласилась, – уж очень, должно быть, я была страшная. Я побежала в госпиталь, сказала отцу, что возьму мальчика, а потом его. Отец щелкал зубами, молил: «Валя, скорей! Валя, скорей! Врачи уже бежали, нас здесь перебьют. Военный ведь лазарет». Тогда думали, что в лазаретах всех рубят шашками. В палатах уже пусто, лежат только одинокие, у кого никого нет, зовут. Некоторые ползли к дверям. Один, помню, радовался, что за час прополз через две палаты. А куда ползут – неизвестно.
Я разыскала санитара. Василий, был такой санитар. Прошу перенести отца, а сама не знаю куда, – мысли путаются. Он согласился. «Пойдем, говорит, тут через два квартала я живу, у меня носилки, захватим. Вы мне поможете его вытащить, а на улице кто-нибудь найдется». Я пошла. Уже снаряды рвались; я даже не слышала, только видела, – казалось, не ярче, чем вспыхивает спичка. Он привел меня в комнату, не помню даже куда. Стоят носилки. Я схватила их, а он остановил меня и спрашивает: «А плата?»
Я взглянула на него, похолодела, молчу. Вдруг вспомнила. Ведь в госпитале я видела носилки. Он позвал какого-то парня, показал на меня, говорит: «Денег у ней нет. Придется нам взять с нее плату натурой».
Лучше я не буду вспоминать… Ведь там у меня лежал мальчик, ждал. Вырвалась я от них через час, бросилась к госпиталю, а он…
Валя задохлась.
– Сгорел он, – сказала она, пересиливая удушье. – Все в огне. Я рванулась к двери, меня ударили в грудь, я упала. Меня затоптали. Подожгли, отступая. Говорят, боялись, что захватят списки больных, – тех, что остались в Ростове. И мальчик мой там сгорел, опоздала… Один без меня… и отец…
Она опустилась на землю рядом с Батуриным, крепко взяла его за руки.
– Я осталась одна, совсем одна. Даже трудно представить, как это было страшно. Маня подобрала, дала кокаину. Надо было забыть все, иначе нельзя было жить. А дальше не стоит рассказывать. Так я и осталась с Маней. Переменилась, будто вытряхнули из меня старую душу. И вот теперь…
Она смотрела на море и забывчиво гладила руку Батурина. От волос ее шел легкий печальный запах.
Больше они ни о чем не говорили. Около дома Игнатовны встретился Ли-Ван; он шел крадучись, согнувшись, как на лыжах.
– У этого китайца я оставила в прачечной вещи, здесь, рядом с вами, – сказала Валя. – Завтра возьму. Кажется, я в Ростове его встречала. Он ходит как кошка за мышью.
В комнате Батурин открыл окно: за ним тихо шумела кромешная тьма. Не зажигая огня, они легли. Батурин лег на полу. Сквозь сон он слышал, как Валя тихо встала, закрыла ставни.
Проснулся он от ощущения, какое было в Таганроге перед отъездом. Ему приснилось, что в комнату вошло несчастье. Он даже видел его, – это был человек из серого ситца, грязный, как тряпичная кукла. Розовые его глаза зло и долго смотрели на Батурина. Батурин ударил его по голове, раздался крысиный писк, клубами взвилась шершавая пыль. Тряпичный человек упал мягко и тупо, и Батурин проснулся.
Валя сидела на кровати, закутавшись в одеяло, глаза ее были широко открыты.
– Под окном кто-то стоит вот уже час, – прошептала она и виновато взглянула на Батурина.
Батурин вскочил.
В щели ставень неуютно сочился белесый рассвет. В самую широкую щель на него смотрели немигающие дряхлые глаза Ли-Вана. Ли-Ван быстро присел и побежал вдоль стены, сгибая ноги, будто тащил тяжелый груз. Батурин вздрогнул, – у китайца была узкая и страшная спина. На нем была ватная безрукавка; он