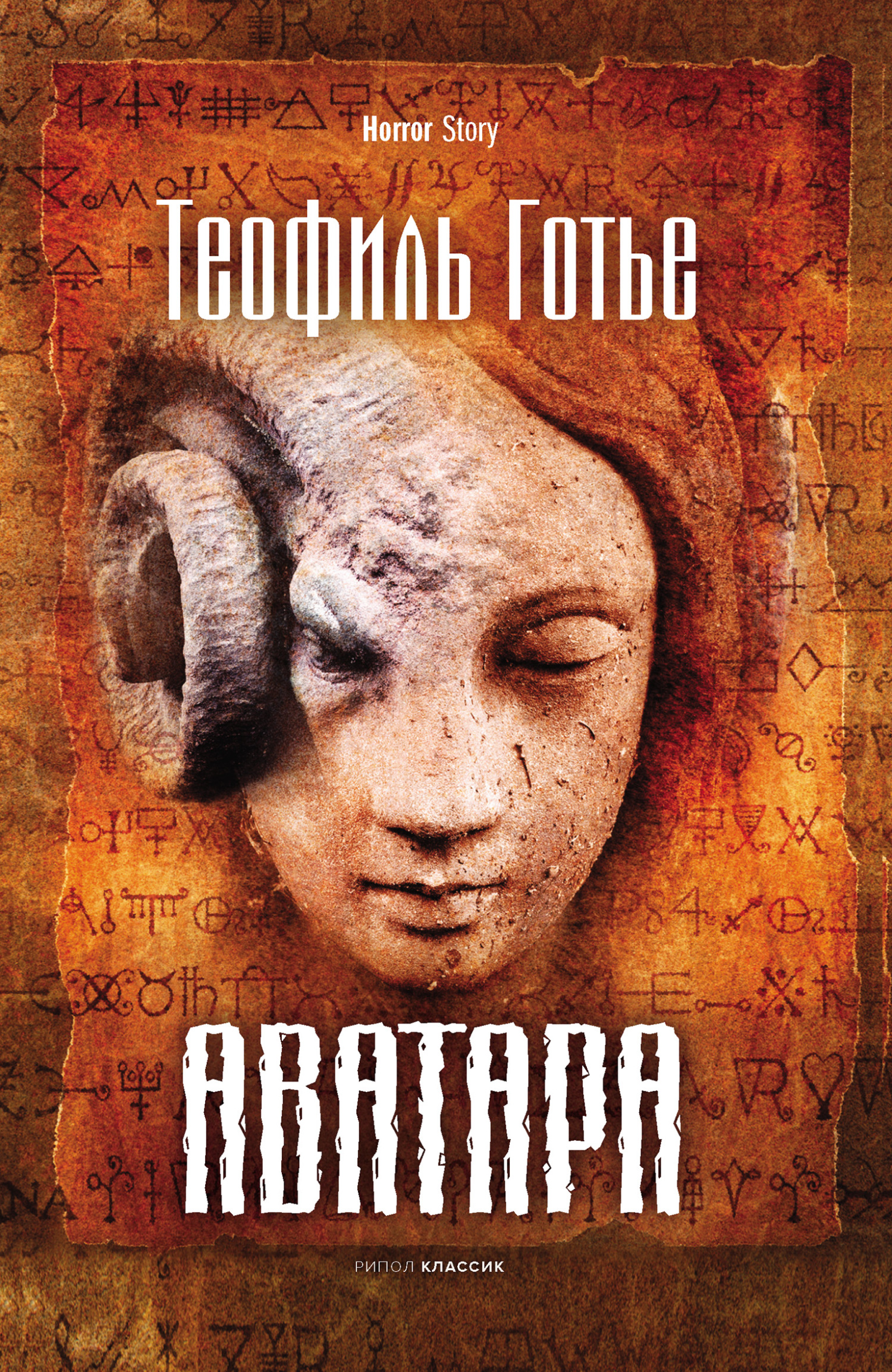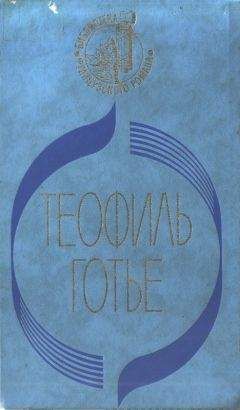и сказал, как бы сам себе, когда рассказчик на мгновение умолк:
– Да, вот диагноз любви-страсти, любопытной болезни, с которой я столкнулся лишь однажды, в Шандернагоре [61], где юная пария [62] влюбилась в брахмана. Она умерла, бедная девочка, но то была дикарка, а вы, господин Октав, – цивилизованный человек, вас мы вылечим.
Закончив это маленькое отступление, врач подал господину де Савилю знак продолжать, сложил ногу, как саранча свою членистую ланку, и подпер коленом подбородок, устроившись в невообразимой для любого другого человека, но, похоже, любимой своей позе.
– Не хочу докучать вам деталями моих тайных страданий, – продолжил Октав, – и перейду к решающей сцене. Однажды, не сумев долее сдерживать настоятельное желание видеть графиню, я пришел раньше обычного. Было душно, надвигалась гроза. Я не нашел госпожу Лабинскую в гостиной. Графиня расположилась под стройными колоннами портика, выходившего на террасу со ступеньками в сад; она приказала вынести туда пианино, плетеные кресла и канапе. Жардиньерки, полные великолепных цветов – нигде нет таких свежих и таких ароматных цветов, как во Флоренции, – стояли между колоннами и наполняли благоуханием редкие дуновения ветра, долетавшего с Апеннин [63]. В просветах аркады виднелись стриженые тисы и самшиты, над ними возвышались несколько столетних кипарисов, там обитали вычурные мраморные божества в духе Баччо Бандинелли [64] и Амманати [65]. Вдали, над силуэтом Флоренции, вырисовывались округлый купол Санта-Мария-дель-Фьоре [66] и устремленная ввысь квадратная башня Палаццо Веккьо [67].
Графиня в небрежной позе полулежала на тростниковом канапе и никогда еще не казалась мне такой прекрасной. Ее тело, утомленное от жары, утопало, словно тело морской нимфы в белой пене, в просторном пеньюаре из индийского муслина, обшитого сверху донизу оборками, напоминавшими серебристые гребни волн. Стальная черненая брошь из Хорасана [68] скрепляла на груди это платье, легкое, как одежды, что струятся вокруг Ники, завязывающей сандалию [69]. Из рукавов, доходивших до локтей, подобно пестику из чашечки цветка, выглядывали руки; их цвет превосходил чистотой алебастр, из которого флорентийские скульпторы делают копии античных статуй. Широкий черный пояс с длинными концами смело нарушал всю эту белизну. Сочетание черного и белого, напоминавшее о трауре, могло бы навеять печаль, если бы из-под нижней складки муслина не выглядывал задорный носок маленькой черкесской туфельки из синего сафьяна с желтыми рельефными арабесками.
Светлые, будто наполненные воздухом волосы графини открывали чистый лоб и прозрачные виски, образуя своего рода нимб, в котором переливались золотые искорки света.
Рядом с ней, на стуле, трепетала от ветра большая шляпа из рисовой соломки, украшенная такими же черными лентами, как пояс ее платья, и покоилась пара шведских перчаток [70], оставшихся не надетыми. Увидев меня, Прасковья захлопнула книгу – стихи Мицкевича [71] – и приветливо кивнула. Она была одна – редкое и благоприятное обстоятельство. Я сел напротив, в кресло, на которое она мне указала. На несколько минут воцарилось молчание, которое грозило стать тягостным, но я не мог вспомнить ни одной расхожей фразы, уместной в таких случаях. Мысли путались, волны пламени поднимались от сердца к щекам, а любовь кричала мне: «Не упусти случая!»
Не знаю, что бы я сделал, если бы графиня, угадав причину моего смятения, не приподнялась и не протянула прекрасную руку, как будто желая прикрыть мне рот.
«Ни слова, Октав… Вы любите меня, я знаю, чувствую, верю. И я нисколько не сержусь на вас, ведь мы не вольны в любви. Другие, более жестокосердные, женщины сделали бы вид, что оскорблены, а я вам сочувствую, ибо не могу ответить вам любовью и мне очень грустно служить причиной вашего несчастья. Очень жаль, что вы повстречались со мной, – будь проклят каприз, заставивший меня покинуть Венецию ради Флоренции… Сначала я надеялась, что моя упорная холодность утомит и оттолкнет вас, но настоящему чувству, все признаки которого я читаю в ваших глазах, ничто не помеха. Я не хочу, чтобы моя нежность дала вам повод к напрасным надеждам и мечтам, не принимайте сострадание за поощрение. Ангел с алмазным щитом и сверкающим копьем [72] охраняет меня от всякого соблазна, этот ангел – моя любовь, ибо я обожаю графа Лабинского. Мне выпало счастье обрести страсть в замужестве».
Это признание, столь чистосердечное, доброжелательное и благородно-целомудренное, извергло поток слез из-под моих ресниц, я почувствовал, как у меня в груди лопнула пружина жизни.
Взволнованная Прасковья встала и, повинуясь женской жалости, нежно провела батистовым платком по моим векам.
«Ну же, не плачьте, – промолвила она, – я вам запрещаю. Постарайтесь думать о чем-то другом, представьте, что я навсегда уехала, умерла, забудьте меня. Путешествуйте, работайте, окунитесь в жизнь, ищите утешения в искусстве или любви…»
Я негодующе покачал головой.
«Вы думаете, что будете меньше страдать, продолжая видеть меня? – спросила графиня. – Приходите, я всегда приму вас. Бог учит прощать нашим врагам, так почему же поступать иначе с теми, кто нас любит? Однако мне кажется, что разлука – более надежное средство. Года через два мы сможем пожать друг другу руки безо всякого риска… Для вас», – добавила она, попытавшись улыбнуться.
На следующий день я уехал из Флоренции, но ни учение, ни путешествия, ни время не избавили меня от страданий, я знаю, что погибаю. Не мешайте мне, доктор!
– И с тех пор вы не видели графиню? – Голубые глаза доктора странно блеснули при этом вопросе.
– Нет, – ответил Октав, – но сейчас она в Париже. – И он протянул господину Бальтазару Шербонно карточку с выгравированными на ней словами: «Графиня Прасковья Лабинская принимает по четвергам».
В те годы изредка, но все же попадались прохожие, которые, стремясь избежать облаков пыли и щегольского шума Елисейских полей, предпочитали прогуляться от оттоманского посольства [73] в сторону Елисейского дворца [74] по уединенному тенистому проспекту Габриеля, окаймленному с одной стороны деревьями, а с другой – садами. И среди этих любителей тишины мало нашлось бы таких, кто не остановился бы, заглядевшись с восхищением, смешанным с завистью, на редкой красоты особняк, где, казалось, богатство в виде исключения живет под одной крышей со счастьем.
Кому не случалось замедлить шаг у решетки парка, засмотреться на утопающее в пышной зелени белое здание и удалиться с тяжелым сердцем, как будто за этими стенами укрылась мечта всей жизни? Другие дома, напротив, своим видом навевают нескончаемую грусть. Тоска, запустение, отчаяние оставляют на их фасадах серый налет и сушат полуголые верхушки деревьев; облупившиеся статуи зарастают мхом, цветы увядают, вода в фонтанах зеленеет, дорожки