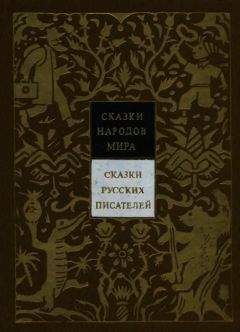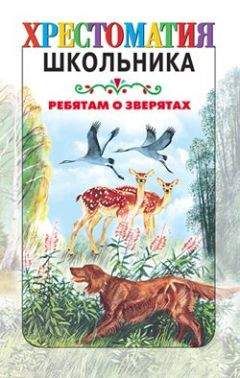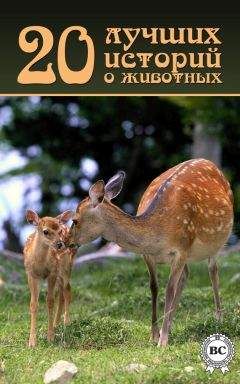разбил его так, что во все стороны брызнули мокрые куски.
Кондитер рвал на себе волосы, старик вопил диким голосом. Прибежали пекаря, и сконфуженный Петя говорил:
— Да, ведь, чудаки, не нарочно же я! — взял скорее шапку, пошел в сени и на двор, сел у ворот на лавочке, и, понял, что своей глупостью испортил дело совсем, заплакал навзрыд.
Стояла четвертая неделя поста. На пятой Пете непременно надо было ехать в Нижний, а Анночку за все это время ему ни как не удавалось повидать. Гулять она больше не ходила, ко всенощной и обедне тоже, вечеринок по случаю поста не было. Петя пьянствовала, еще неделю, мамаша драла его за волосы и била палкой, и он сидел в лавке, а сердце у него глодало так, что он говорил Алексеичу:
— Прости, брат мочи нет. Хоть руки на себя наложить. Так вот и жжет.
Увидел он ее только за день до отъезда. Потупившись, она шла куда-то мимо рядов, заглянула украдкой в лавку и свернула влево, к церкви. Дав ей отойти, Петя вырвался из лавки, полетел задами за ней вслед, догнал ее и сказал:
— Анночка, завтра мне ехать. Да как бы тебя, голова, повидать? Просто хоть удавиться, так невтерпеж.
Условились встретиться вечером. Анночка пойдет к тетке, посидеть там до восьми часов, а Петя подождет ее на углу. Улица там пустынная, и немножко можно поговорить.
— А теперь, — говорила Анночка торопливо, — ты, Петя, иди. А то увидят, боюсь.
Петя проводил ее, не помня себя, еще несколько шагов, вернулся в лавку и, еле дождавшись вечера, стал сторожить на углу. И как только скрипнула калитка, и появилась фигурка в серой шапочке, так точно отшибло у него память. Подошел к ней, взял ее за руку, и из глаз брызнули слезы.
Шли они по пустынной улице, которая выходила прямо в мелкий ельник, было уже темно, только от талого снега шел еще блеск, смотрели друг на друга и не знали, что сказать. В самом конце стояли там старые срубы, одним боком упирались в пустой огород. Зашли они, сами не зная, как, туда, и лежали там, на прелых щепках, три мокрых бревна. Анночка опустилась на них, закрыла руками лицо и начала плакать. Петя встал рядом и стукался головой о срубы.
Что тут было говорить? Видно было все. Пете надо еще в солдаты, служить придется три года, кондитер же и человек хороший, и жених не плохой, а отец как упрется на чем, так его и не сдвинешь. И маменька тоже уговаривает, что две младшие сестры подрастают и тоже заневестятся скоро.
— Петя, Петя!.. — твердила, всхлипывая, Анночка, — зачем я тебя полюбила!
И Петя понял, что поделать ничего нельзя, перестал стучать о срубы головой и сказал:
— Так-таки за кондитера и пойдешь?
Анночка опрокинулась на бревна спиной, забила руками и закричала:
— Не пойду. Не хочу! — и начала громко рыдать. — Одного тебя, Петичка, люблю, — твердила она, прижимаясь к нему. — Ни за кого не пойду. Пусть сестры выходят, а я тебя буду ждать.
Целуя ее, Петя позабыл все — и солдатчину, и мамашу, и поездку, и они обнимались, пока Анночка не спохватилась.
— Ой, сколько времени-то, погляди! — и, испугавшись, заторопилась: — Надо идти, надо идти!..
— Так будешь ждать? — спрашивал Петя, глядя ей в глаза.
— Буду ждать! — закидывая назад голову, твердила она. — Пусть, что хотят, то и делают. Буду ждать.
Петя шел домой, бодро ступая по грязи, и думал:
— А может, и не выйду в груди. Тогда наплевать на все, уговорю мамашу и сейчас же женюсь.
На следующий день, когда он сидел уже в санях, мамаша кричала ему:
— Смотри же, Петр, в Нижнем-то не чуди. Там не наш город. Остерегись. Больно, ведь, батюшко, хорош бываешь, как вожжа захлестнет тебе под хвост.
— Да что вы, мамаша! — солидно отвечал Петя. — Не беспокойтесь же. Не в первый же раз.
— Да уж такое ты нещетко, что каждый раз за тебя сердце болит. Скажи Сереженьке-то, чтобы присмотрел за тобой.
Сереженька был его старший брат. Он служил в Нижнем в банке, и был важной шишкой, не то, что Петя, который, не захотев учиться, так и остался уездным купцом.
Два дня дороги в думах об Анночке мелькнули быстро. По приезде начались рассказы брату и дела. Петя ходил по складам, разговаривал с доверенными, выбирал, какой ему был нужен товар, чинно гулял с братом и его женой по улицам, смотрел на народ и думал об Анночке, которая его ждет.
Две недели пролетели, как сон. В среду на Страстной он собрался домой, и как раз через Волгу сделался плохой переезд. Брат уговаривал подождать, но Петя не послушался, поехал и провалился с санями под лед. Выкарабкавшись кое-как, вернулся обледенелый назад, получил воспаление легких и пролежал без памяти, в жару, девять дней.
В конце Пасхальной недели, когда он только, только стал приходить в себя, приносят ему телеграмму: «Выдают насильно. Что делать? Приезжай. Твоя навек Анночка».
Петя вскочил и хотел скакать домой, но к вечеру забормотал и снова впал в бред. Все рвался бежать, кого-то убивать, так что доктор велел его связать. А когда снова пришел в себя, то громко стал плакать и послал Алексеичу телеграмму, чтобы передал Анночке: «Не выходи. Лежу без памяти. Скоро приеду».
Его продержали в постели еще недели две, но, как только позволили, он вскочил худой, как кощей, с провалившимися щеками, сел в тарантас и поскакал.
Мать так и ахнула, увидев, каков он стал, но, не отвечая на ее расспросы, он прямо спросил:
— Мамаша, а у Панкратовых свадьба была? — и когда узнал, что на прошлой неделе была, то, не говоря ни слова, вышел на двор, влез по лестнице на сеновал и уткнулся там лицом в сено.
Сильно волнуясь, мамаша бегала внизу и кричала:
— Петр, а, Петр! Петя. Да сойди же ты вниз. Хоть поешь, с дороги-то. Вот какие ноне дети пошли. Приехал, целый месяц в чужом городе сидел, чуть не умер там, и заместо того, чтобы с матерью поговорить, на сеновал полез.
Но Петя поглядел на нее из сеновальной двери мутными глазами и проговорил:
— Мамаша. Оставьте меня в покое, а то я, пожалуй, удавлюсь.
Он пролежал на сеновале часа три, думал разные мысли. То хотел пойти к кондитеру и убить его. То решал украсть Анночку и убежать с ней в лес. Еще думал пойти ночью