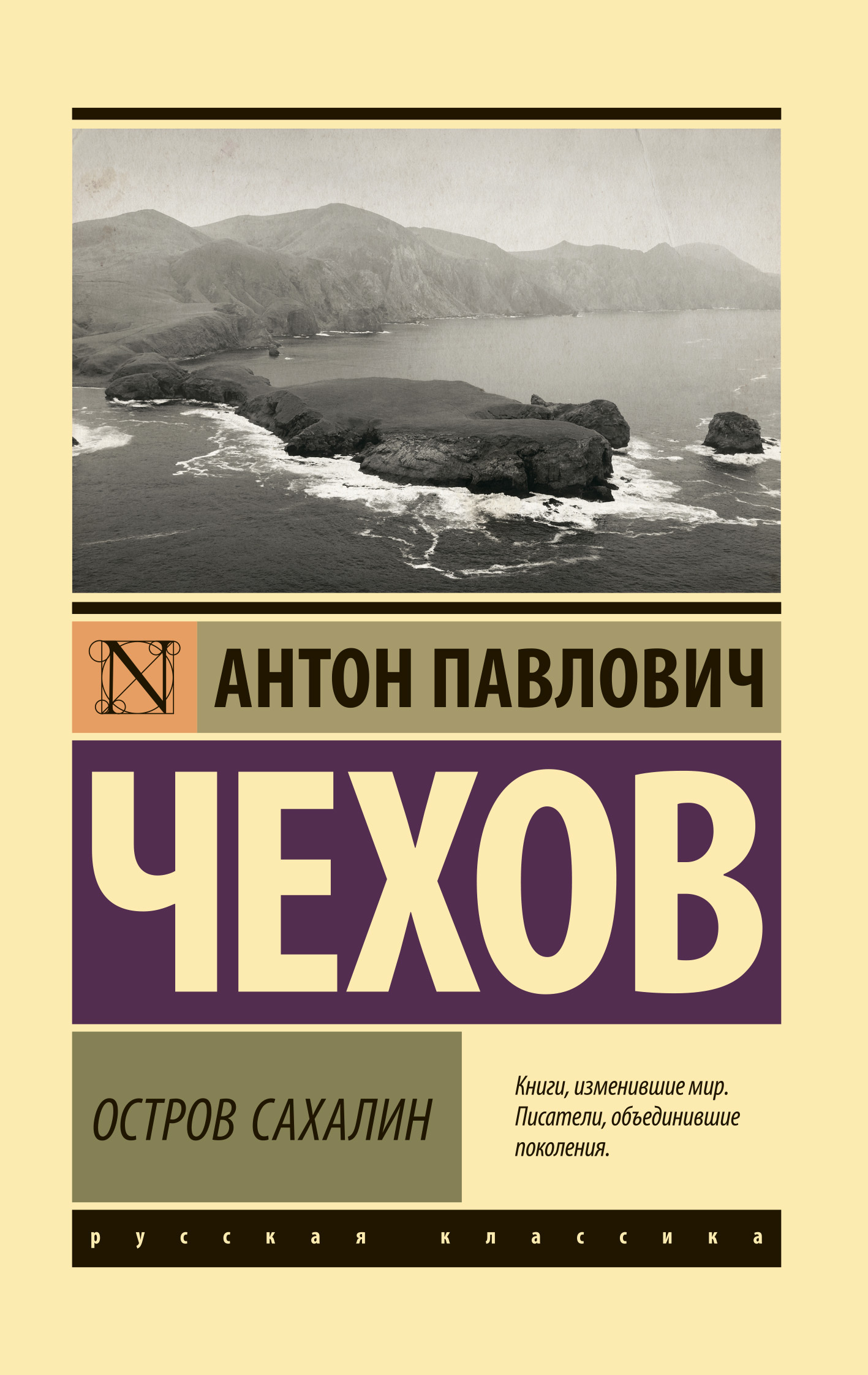на меня все мои чемоданы и узлы… Пока я, ошеломленный, лежу на земле, мне слышно, что несется третья тройка. «Ну, думаю, эта, наверное, убьет меня». Но, слава богу, я ничего не сломал себе, ушибся не больно и могу встать с земли. Вскакиваю, отбегаю в сторону и кричу не своим голосом:
– Стой! Стой!
Со дна пустой почтовой телеги поднимается фигура, берется за вожжи, и третья тройка останавливается почти у самых моих вещей.
Минуты две проходят в молчании. Какое-то тупое недоумение, точно все мы никак не можем понять того, что произошло. Оглобли сломаны, сбруи порваны, дуги с колокольчиками валяются на земле, лошади тяжело дышат; они тоже ошеломлены и, кажется, больно ушиблены. Старик, кряхтя и охая, поднимается с земли; первые две тройки возвращаются, подъезжает еще четвертая тройка, потом пятая…
Затем начинается неистовая ругань.
– Чтоб тебя уязвило! – кричит ямщик, столкнувшийся с нами. – Язвина тебе в рот! Где у тебя глаза были, старая собака?
– А кто виноват? – кричит плачущим голосом старик. – Ты виноват, да ты же и ругаешься?
Как можно понять из ругани, причиною столкновения было следующее. Ехало в Абатское пять обратных троек, возивших почту; по закону, обратные ямщики должны ехать шагом, но передний ямщик, соскучившись и желая скорее попасть в тепло, погнал лошадей во весь дух, в задних же четырех телегах ямщики спали и некому было править тройками; за первою во весь дух побежали и остальные четыре. Если бы я спал в тарантасе или если бы третья тройка бежала тотчас же за второй, то, конечно, дело не обошлось бы для меня так благополучно.
Ямщики ругаются во все горло, так что их, должно быть, за десять верст слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо! Так умеют браниться только сибирские ямщики и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов. Из ямщиков громче и злее всех бранится виноватый.
– Ты не бранись, дурак! – защищается старик.
– А что? – спрашивает виноватый ямщик, мальчишка лет 19, с угрожающим видом подходит к старику и становится лицом к лицу. – А что?
– Ты не очень!
– А что? Отвечай: что же будет? Возьму обломок оглобли, да обломком тебя, язвина!
По тону судя, быть драке. Ночью, перед рассветом, среди этой дикой ругающейся орды, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодного ночного воздуха, около этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу и ржут, я чувствую такое одиночество, какое трудно описать.
Старик, ворча и высоко поднимая ноги, – это он от болезни, – ходит вокруг тарантаса и лошадей и отвязывает, где только можно, веревочки и ремешки, чтобы связать ими сломанную оглоблю, потом он, зажигая спичку за спичкой, ползает на брюхе по дороге и ищет постромку. Идут в дело и мои багажные ремни. Уж занялась заря на востоке, уж давно кричат проснувшиеся дикие гуси, наконец уж уехали ямщики, а мы все еще стоим на дороге и починяемся. Пробовали было ехать дальше, но связанная оглобля – трах!.. и нужно опять стоять… Холодно!
Кое-как шагом доплетаемся до деревни. Останавливаемся около двухэтажной избы.
– Илья Иваныч, кони дома? – кричит старик.
– Дома! – отвечает кто-то глухо за окном.
В избе встречает меня высокий человек в красной рубахе и босой, сонный и чему-то спросонок улыбающийся.
– Клопы одолели, приятель! – говорит он, почесываясь и улыбаясь еще шире. – Нарочно горницу не топим. Когда холодно, они не ходят.
Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не едут, а бегут. Спрашивают: «Куда, ваше благородие, бежишь?» Это значит: «Куда едешь?»
Пока на дворе подмазывают возок и позвякивают колокольчиками, пока одевается Илья Иваныч, который сейчас повезет меня, я отыскиваю в углу удобное местечко, склоняю голову на мешок с чем-то, кажется, с зерном, и тотчас же мною овладевает крепкий сон; уж снятся мне моя постель, моя комната, снится, что я сижу у себя дома за столом и рассказываю своим, как моя пара столкнулась с почтовой тройкой, но проходят две-три минуты, и я слышу, как Илья Иваныч дергает меня за рукав и говорит:
– Вставай, приятель, лошади готовы.
Какое издевательство над ленью, над отвращением к холоду, который змейкой пробегает по спине и вдоль и поперек! Опять еду… Уже светло, и золотится перед восходом небо. Дорога, трава в поле и жалкие, молодые березки покрыты изморозью, точно засахарились. Где-то токуют тетерева…
8-го мая
III
По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов… Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы.
В каждом селе – церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворечня, и так низко, что до нее можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются общею любовью, и их даже кошки не трогают. Садов нет.
Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной езды, я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, и пью чай. Горница – это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашеные или покрытые цветными холщовыми постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора