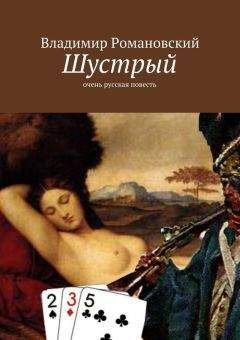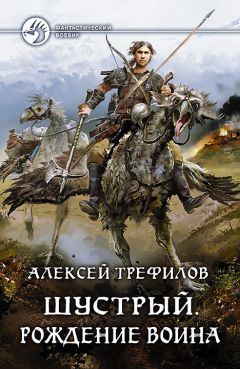Шустрый
очень русская повесть
Владимир Дмитриевич Романовский
© Владимир Дмитриевич Романовский, 2015
© Тициан Вечеллио, иллюстрации, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Все слова в повести понятны из контекста. Но ежели возникнет заминка, автор просит читателя обратиться к Справке на последней странице, там все объяснено.
Copyright © by Author
Велика земля, амичи, внушительна и мёрзла, колючими стволами утыкана, звездами холодными и луной равнодушной тускло освещена, а ветер, амичи – просто сил никаких нет, будто одного мороза мало, нужен еще и ветер обжигающий, не подчиняющийся логике, вольный в выборе средств, как палач во время пытки – невозможно предугадать, откуда подует, где проберет.
И бродят вокруг звери злые, зимние, изголодавшиеся. Костра опасаются звери, но костер опасен также и невольному путнику: тем, что, согревшись и переполнившись оптимизмом, может путник задремать возле него, сомкнуть усталые очи свои, привалиться набок, подумать – ну, всего несколько минут полежу вот так, с закрытыми глазами, уж больно хорошо – только этого и ждут звери, как чувствуют, подлые. Со зверями договориться еще труднее, чем с людьми, то есть вообще нельзя, не послушают.
А бывает так, что костер почти догорел, а новые сучья таскать сил нет, просто нет никаких сил, а рассвет все не наступает, и кругом глаза горящие, жадные: блядский бордель, не поймешь, то ли они действительно там, то ли мерещатся тебе, и ни огнестрела, ни ножа, ни даже дубины с тобою нет. Как глупо, амичи, пройти полмира, участвовать в исторических событиях, решать дальнейшую судьбу этой, не побоимся слова, цивилизации – и вот так вот, одному, беспомощному, стонущему, продрогшему до сверлящей боли в суставах, до звона в ушах и в мозгу, быть разодранным тупыми тварями, не осознающими всего, не побоимся слова, величия произошедшего и продолжающего происходить.
Но чудеса, бывает, случаются не спросясь и не предупредив. Не загрызли Шустрого бескомпромиссные волки, не задрал очнувшийся вдруг от спячки ирритабельный медведь, не навалились на теплое еще тело никогда не водившиеся в этих краях гиены, жив Шустрый, жив!
Тусклому рассвету Шустрый не обрадовался, просто отметил про себя, без эмоций, что вроде бы светлеет, этуали в небе одна за одной исчезают, сереет пространство вокруг, виден объем стволов и веток. Эмоции были целиком заняты холодом обволакивающим, болью омерзительной в ребрах, в бедре, в боку и в плече, желанием жить, и усталостью. Боль в ногах почти не чувствовалась – поморожены небось. Сапоги – нет, сапогами назвать нельзя, что-то невиданное, абсурдное, почти совсем бесполезное. Сук в руке, обернутой тряпкой, все тяжелее, но бросить нельзя. Упадешь, не встанешь, уснешь, сдохнешь, а жить надо.
Бор кончился, открылось огромное серое в бледно-рассветном освещении пространство. На пространстве этом Шустрый заприметил что-то похожее на санный след и пошел к нему, не отводя глаз, опасаясь, что если отведет, то след исчезнет, сделает вид, что померещился.
Две параллельных линии – значит, где-то есть люди, будем надеяться, что совсем близко. Создатель симметрию недолюбливает, прямые линии не в его стиле, тем более параллельные. Как бы говорит Создатель человеку – ежели заприметишь где что-то похожее на симметрию, значит, свои рядом, туда и иди, горемыка, и в будущем постарайся один не оставаться, человеку нужно общение, без общения пропадешь.
Постанывая в голос, Шустрый добрался, несколько раз падая в снег и поднимаясь тяжело, до санного следа.
Стало ещё светлее, и обнаружилась равнина с лесом вдалеке слева, а чуть дальше по ходу – пологий спуск. Замерзшая река. Санный след некоторое время шел вдоль реки, а потом свернул вниз, и продолжился по заледеневшей и покрытой снегом поверхности. Шустрый остановился, выпростал свободную руку, и поправил ею тряпки, закрывавшие голову и шею. Обнажившееся запястье обожгло безжалостным морозом.
Вскоре, спустя всего две или три вечности, санный след перешел к противоположному берегу реки, и начался подъем.
Дался он Шустрому с огромным трудом. Но дальше, за подъемом, показались вдалеке хибарки, и над некоторыми из них поднимался дым – в хибарках топились печи, возможно в них завтракали неспешно по причине зимы – зимой работы почти нет в этой местности – люди. Шустрый поковылял к хибаркам по санному следу.
Через некоторое время ему навстречу рысью направилась лошадь, тянущая за собой сани с ездоком, укутанным до глаз в добротное и теплое, по крайней мере по сравнению с тем, что было на Шустром. Ездок крикнул что-то на местном наречии, которое Шустрый не понимал, но в крике звучало недовольство, и Шустрый благоразумно решил, что надо убраться с дороги. Он сошел с санного следа в сторону, и тут же потерял равновесие и упал на снег. Сани проехали мимо, и ездок что-то такое сказал, злое, на прощание. Шустрый поднялся, припал на колено, снова поднялся, и вернулся на твердую поверхность.
Еще через несколько вечностей он прибыл к хибаркам. Одна из них стояла отдельно, на отшибе. Возможно, хозяин ее был индивидуалист и не любил тесное соседство. Может, он был астроном, предпочитающий рассматривать и корректировать карту звездного неба в полнейшей тишине, или композитор, не любивший, когда мелодии, возникающие в его музыкальной голове, перебиваются суетными разговорами, дурацкими выкриками и жалобами. Шустрый добрался до крыльца, встал, мыча, на кривую ступеньку, и постучал верхним концом сука, на который опирался, в дверь, чуть при этом не завалившись на спину.
За дверью раздались шаги. Грохнул засов, дверь приоткрылась, на пороге возник белобрысый мове-гарсон лет пятнадцати в длинной и очень грязной холщовой рубахе. Из приоткрытой двери повеяло на Шустрого спасительным теплом и запахло горячей едой. Но Шустрый заставил себя не завораживаться едой и теплом. Нужно было что-то говорить – это было главное. Люди, нуждающиеся в помощи, должны говорить – иначе им не помогут, сделают вид, что не понимают, что нужно путнику помороженному, обернутому в тряпьё непонятного цвета, еле стоящему на ногах. Может, он натуралист, и его интересуют названия местной флоры, или же, к примеру, он меломан и хочет осведомиться, где здесь ближайший оперный театр, а они не знают ни того, ни другого, извини, парень, не можем тебе помочь.
Он собрался с мыслями. Что сказать мове-гарсону, о чем попросить? Ну, понятное дело – тепла, еды – но как обратиться, как назвать собеседника?
«Сударь» – слишком официально, «господин мой» – глупо. Тем более, что наречия, на котором Шустрый изъясняется, здесь не понимают, а он не понимает их наречия. Ужасно неудобно это. Нужно сказать что-то очень простое, и в то же время вежливое, и переполненное дружелюбием, показывающее, что вот он, Шустрый – абсолютно безопасен, жалок, слаб, и от милости открывшего дверь зависит целиком – так вот не будет ли открывший так добр, не окажет ли благоволение самое малое? «Приятель» – нет, слишком фамилиарно.
Шустрый вытащил из-под тряпок свободную руку, протянул вперед в вежливом, слегка заискивающем, жесте, и сказал:
– Дорогой друг…
Малый отвернулся. Шустрый стал ему неинтересен. За малым возникла мрачная фемина средних лет, с ненавистью посмотрела на Шустрого, и что-то бросила по его адресу, какие-то злые слова, судя по тону – что-то вроде «Убирайся отсюда, говно».
Это было, наверное, справедливо. Справедливость – она такая, встречается там, где ее меньше всего ждешь, и где от нее меньше всего толку. Наверное у женщины этой погиб в баталии муж, и в Шустром она видела врага, принимавшего участие в отнятии у нее мужа. Шустрый продолжал стоять перед ними, матерью и сыном, пытаясь улыбаться – получалось плохо, щеки не двигались, губы не растягивались, одеревенели.
Тут вдруг за спиною фемины возник здоровяк набыченный, средних лет. Отодвинув фемину, он сделал жест рукой и сказал несколько слов злым тоном. Смысл был понятен – «А ну, пошел отсюда». Или что-то вроде этого.
Дверь захлопнули и заперли.
Шустрый немного постоял, собираясь с силами, а затем осторожно спустился с крыльца, качнулся, восстановил равновесие, и направился к группе хибарок, скучившихся в ста шагах от той, куда его не пустили. Мимо проехали еще одни сани с закутанным седоком. Куда это они все едут, подумал Шустрый. И решил, что они едут браконьерствовать. Что ж, занятие почтенное в некоторых весях. Сам Шустрый никогда не браконьерствовал, но с браконьерами многими был знаком и их не осуждал. Воры – иное дело. Воровать у простых людей – зазорно, у них и так всего мало. А дичь пострелять или дерево-другое срубить для домашних нужд – не обеднеет владелец! Скорее всего просто не заметит. Да и вообще – почему большинство владельцев земель и лесов таковыми рождаются, и забот не знают, не жнут, не сеют, а остальные перебиваются кто чем?