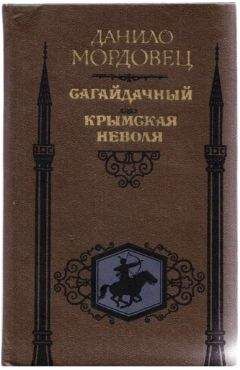Чаю попил я, кружку сполоснул. Смотрю в окно: мама из бани возвращается. Опять пешком – коня забыла возле бани.
Вошла в дом – долго заходила. С накинутым на голову оранжевым махровым полотенцем. На стул в прихожей опустилась. Молчит.
– С лёгким паром, – говорю.
– Ну, кое-как… Спасибо, милый.
– Ну, хоть намылась?
– Да уж кого… Слава одна… Как шшука, поплескалась.
– Чай, – говорю, – горячий. Можешь выпить.
– Дай очураться.
– Может, налить тебе? Ты – с молоком?
– Едва жива… Да я сама, ты не сумешь, – сказала так и улыбается. – Кто был у нас?.. Соляркой пахнет.
– Петро.
– Петро… Не Чекунов ли?.. Я сразу так и поняла. Звонить?
– Звонить.
– Приходит часто.
Потом уже, попив чаю и устроившись на кровати:
Расчёсывает пластмассовым гребешком свои, редкие уже, седые, когда-то красивые тёмно-каштановые, волосы и говорит:
– Космы мои… Ничё уж не осталось…
С гребешка волосы в горсти скатывает. И продолжает:
– А вдруг как замуж соберусь, и кто возьмёт меня, прынцессу… Зато хоть в чистое оделась… Ну, слава Богу… А то когда ещё пришлось бы. Тыто пойдёшь?
– Пойду.
– Сходи, сходи. Там, правда, жарко было… дверь приоткрывала. Подбросишь дров – нагреется-то быстро.
– Я уж потом, после рыбалки.
– Дело твоё, тебе решать.
Взял я свой рыбацкий рюкзак и спиннинг. Нашёл в кладовке свои болотники, обулся.
– Ты уж задами, здесь-то не ходи, – говорит мама.
– Ладно, – говорю. Это: чтобы никто меня не увидал, а то удачи, мол, не будет. – Пойду задами.
– Ступай, – говорит мама. – С Богом.
Пошёл я.
Родным берегом прошёл, прокидал – ни одной щуки не мелькнуло. Назад вернулся. Болотники распустив, по обмелевшему перекату, скрычегая на дне галечником, на другой берег перешёл. Пробрался тальником густым до ямы. Блеснить стал. Сразу схватилась. Вытащил. Такая примерно – килограмма на четыре. Спина тёмная, брюхо золотистое. Сунул её в рюкзак, спиннинг собрал. Направился обратно.
В дом, разувшись на крыльце, вошёл.
Мама возле телевизора сидит, «Суд идёт» смотрит. Место у неё тут такое: обзор в два окна – корову выслеживать. Меня вот как-то проморгала.
Услышала – пол скрипит – обернулась.
– О, и рыбак. А как я пропустила?
– Не знаю.
– Будто вот и смотрела всё на улицу… Рыба-то есть? – спрашивает.
– Есть, – говорю.
– В речке?
– Нет, в рюкзаке.
– Ну, слава Богу… Ты уж её почисти сам, а я сварю потом, попозже.
– Ладно, – говорю, – почищу и выпотрошу. А потом – в баню.
– Да там уж выстыло.
– Я подтоплю.
Отправился в баню. Дров подбросил. Угли в печке ещё не угасли – дрова быстро разгорелись.
Щуку почистил, выпотрошил, на куски её разрезал, отнёс в дом.
– Передача нравится? – спрашиваю у мамы.
– Да нет, чему тут нравиться… Один убил, другой украл… Сижу, гляжу – корову бы не проворонить.
– Придёт, – говорю, – сама заявит о себе.
– Заявит, – соглашается.
То и дело встаёт со стула и отходит от телевизора, в окно, прикрыв глаза ладонью, смотрит.
– Там не она?.. Чернеет-то.
Подойду, гляну.
– Нет, мама, не она.
– А кто?
– Там столб.
– Мне показалось.
– Сиди. Придёт когда, услышишь.
Сходил я, помылся.
Корова появилась. Стоит за логом, на угоре.
Орёт оттуда.
Мама в окно ей:
– Чернуша. Чернуша.
– Гамнюша, – говорю.
– Чё? – спрашивает.
– Да так, – отвечаю.
– Пойду, поманю… Будет кричать, пока не выйдешь, барыня… вот уж где вредная скотина.
– Телевизор выключить? – спрашиваю.
– Сам-то смотреть не будешь – выключай. Чаю попей пока, потом шарбу уж сварим.
– Может, сходить, пригнать её?
– Да где же, милый, ты её пригонишь… Сама придёт, как накричится. Я только тут, с угора, поманю. Ещё ходить за ней, засранкой.
С коровой после вместе разобрались – мама подоила, я помог ей, маме, подняться со скамеечки и унёс в дом подойник с молоком.
– Бычок-то наш запропастился где-то.
– Он у ворот.
– Дак загони. Ведро стоит вон, дашь ему попить.
Управились.
Шарбу мама сварила.
Ужинаем.
– Чё ты такой, Ваня, всё нынче хмурый? – спрашивает мама. – Случилось чё-то? Говори.
– Да ничего, – отвечаю. – Всё нормально.
– Всё у тебя всегда нормально. Я же вижу. Мать не обманешь. Зря молодую себе взял. С ровней бы проще тебе было.
– Она тут, мама, ни при чём. – Да я же чувствую.
– Нормально всё. Не беспокойся.
– На пять лет старше – ещё ладно. Вон ваш отец, был меня старше на шесть лет, мы век прожили… Ну а твоя тебя – на все пятнадцать.
– Ну, мама, хватит.
– Хватит, хватит. Вот и хватит. Ну, правда, раньше тоже всяко было, женились с разницей большой… Как ребятишки-то?
– Нормально.
– Опять – нормально.
– Так и есть.
– И потолкуй с тобой, – говорит мама и улыбается. – Повеселее будь, а то… как туча. И мне от этого – хоть вой.
«Время» посмотрели. Про мир узнали – всё в нём то же.
– Пойду я спать… глаза уже слипаются.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи. И ты ложись. Да долго не читай. Свет-то плохой – глаза себе испортишь. В очках читашь?
– В очках.
– Я и в очках уже не вижу, читать возьмусь псалтырь, а толку-то – всё как в тумане… только на память.
Начался американский фильм. Выключил я телевизор.
Пошёл на веранду.
Рано темнеет. Небо на западе светло-зелёное.
На востоке – тёмно-синее. Звёзды.
Редкие фонари зажглись.
Включил свет. Разделся. Лёг. Взял, потянувшись, с полки книгу. Василий тут читал её, оставил. «Хунну». Лев Николаевич Гумилёв.
Скоро уснул под лошадиный топот.
«Ваня», – меня по имени как будто называют. Не знаю, кто, и не пойму, откуда это слышу. Вроде во сне ни с кем не разговаривал. Да и не видел ничего и никого. Забыл ли тотчас то, что снилось.
Как не откуда-то, а изнутри.
– А?! – отзываюсь ещё в дрёме.
– Ваня, – рукой в плечо меня толкает кто-то осторожно, чувствую. – Очнись, родной… Вот разоспался. Ваня. Ваня.
– А, – говорю, узнав по голосу. – Да, мама, я уже проснулся.
– Спишь как убитый… Я уж испугалась: зову, зову – не добудиться. Трясти уж стала.
– Я не сплю.
– Обычно чуткий. Надо ж так…
– Как провалился.
– Доить пошла. Пора… Минут пятнадцать подожди… пока я тут ещё да там, да пока дойки ей помою… раньше не надо, не успею… и приходи… Ты меня понял?
– Понял, мама.
– А то опять как растянусь там…
– Я поднимаюсь, – говорю.
– Да ещё можешь полежать.
– Уж належался.
– Пойдёшь, – говорит мама, – потéпле оденься… холодно… И у тебя тут – как на улице. Как ты тут спишь?
– Нормально.
– А у тебя иначе не быват, всегда – нормально…
– Ну, так и есть – едва же добудилась.
– Точь как отец. Тому хоть чё, всё было ладно.
В снегу мог спать, когда охотился, сил уж добраться до избушки не хватало-то… кого гонял где, измотался. Берлогу выгребет себе, там и ночует. Медведь медведем… Царство Небесное. Отночевал. Всё теперь, день ему там, ночь ли? Помилуй, Господи, и помяни…
Перекрестилась в тёмный угол.
– Рано её, – говорит, – сама, по своей глупости, доиться приучила… ещё ни свет вон, ни заря… А не явись к ней вовремя, и рёвом изведёт. Не рада будешь.
Корову слышит вот, людей – неважно.
Ушла мама: дверью скрипнула – её открыла и закрыла, задев подойником о притолоку, – тот гулко звякнул – сообщил.
Было бы глаз коли здесь, на веранде, если б не уличные фонари – издалека цедит от них сквозь окна свет неоновый, мерцая инеем на запотевших стёклах. Да там, в прихожей, лампочка горит – луч от неё в щель проникает между шторами, углом ложится на пол и на стену.
Встал я. Оделся скоренько. Водой студёной сполоснулся. Вышел в прихожую, с потёмок – жмурюсь.
Шторки раздвинуты на окнах мамой – чтобы из дома и ограда освещалась, и там ходить было б ловчее.
К русской печи спиной сначала прислонился. Потом – ладонями – погрел их. И нос – холодный тот, как у собаки.
И печь мама уже успела, протопила. Ради гостя, думаю, и дров не экономит. Надо сказать ей, пусть меня не балует – не вельможа. Дрова ей в зиму пригодятся. Если не хватит-то – беда. Потом, в морозы лютые, сырыми шибко не натопишься, да ещё надо их купить, сама ведь знает. Те, что мы с Василием напилили весной нелегально и сразу вывезли из леса, за лето худо-бедно, но просохли. Три поленницы, кубов под тридцать. Но и этих может не хватить – ещё ж зима, какая она выдастся. И напилить сейчас дрова себе – задача сложная: за тридевять земель, в столицу края, нужно ехать, чтобы получить бумажку. Всё для людей, как говорится. Деляну выпишут тебе, при бездорожье-то, за двести километров от деревни, вот и пили и вывози потом дрова на вертолёте – золотыми они выйдут. Это как рыбу – на реке живёшь – ловить тебе не позволяется. Дожили. Без разрешения и жердь не срубишь на скворечник. Не кинешь в речку сеть на пескарей. И не рубили бы и не кидали, если бы было по добру. А то: «Кому-то можно, нам нельзя». Хорошим это не закончится – люди смуреют.