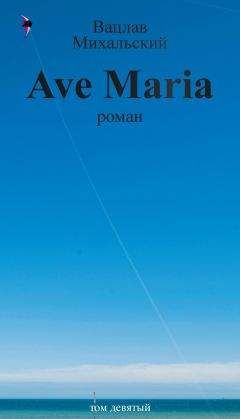– Уныние, господа, тяжкий грех! – любила повторять тетушка Полина. – Никогда не поддавайтесь унынию!
Взрослым она тоже не разрешила завтракать:
– Все едем без завтрака. Завтракать будем на берегу реки, наголодавшись. Завтрак надо выстрадать!
Ах, как она была права, тетушка Полина, как права! Что только не позабыто, какие чудеса и страсти! А вкус того хлеба у чистой русской речки, его незабываемую духмяность, его неземную сладость помнит Мария Александровна до сих пор.
Ехали туда на двух легких подрессоренных линейках на резиновых шинах с лакированными крыльями. На первой ехали господа и правил сам дядя Костя. Эта линейка была запряжена парой серых в яблоках орловских рысаков. На второй линейке ехали слуги: повар, денщик генерала и денщик адмирала – старшина первой статьи Сидор Галушко. Лошади тут были гнедые и не такие породистые, как на первой, хотя тоже не простушки, тоже орловские рысаки. Эта линейка была вся завалена коврами, подушками, набитыми конским волосом, провиантом и прочим необходимым на пикнике, вплоть до березовых поленьев для костра.
Ехали долго. Среди зеленых полей, среди росных лугов, искрящихся под нежным утренним солнцем, благоухающих разнотравьем и разноцветьем, то желтым, то синим, то белым, то нежно-розовым, то лиловым.
Очень похожую, но в сто крат более яркую и контрастную, жесткую по цвету картину видела Мария Александровна потом в пустыне, куда ее возил мсье Пиккар специально посмотреть, как цветет Сахара в отведенные ей для этого Богом несколько дней.
Дорога, хорошо накатанная в лугах, лоснилась после дождя, и вкусно пахло прибитой пылью. Рысаки весело мотали хвостами, бежали в охотку, радостно. Дядя Костя весело хлопал вожжами по их гладким, разгоряченным, чуть дымящимся крупам. Дядя Костя гордился своими лошадьми. Он даже был какой-то ученый чин по лошадиной части, писал статьи в специальные журналы, был награжден как коневод почетными грамотами и, кажется, даже медалью на Всероссийской выставке за «вклад». Он вообще был человек замечательный и знал и умел очень многое. Притом если чем-то увлекался, то осваивал это свое увлечение на самом высшем уровне, можно сказать без преувеличения, добивался таких успехов, что его знали специалисты по всей России не как генерала, а как коневода, как фотографа (тут он тоже, как говорится, собаку съел), как специалиста по орденам и прочим наградам, так называемого фалериста, – одного из крупнейших в России и Европе. Словом, человек он был весьма неординарный, да и генерал, как выяснилось потом, на войне, очень неплохой.
Сразу, как проехали село Боголюбово, глазам предстала незабываемая картина. Над зелеными полями, над рассеченными проблесками речки и окутанными легчайшим цветным туманом лугами плыла белая, с зеленым шатровым куполом церквушка. То ли плыла, то ли повисла между небом и землей.
– Господи! – вскрикнула мама и широко перекрестилась. И все перекрестились вслед за ней с радостью, с каким-то удивительно духоподъемным, чистым восторгом.
Остановились у самой речки, на низком левом берегу, на том, где была церковь Покрова-на-Нерли.
– Боже мой, как же они могли изваять такую красоту семьсот пятьдесят лет тому назад! – воскликнула мама. – Смотри, Маруся, смотри и запоминай это наше русское чудо! И никогда не верь тем, кто скажет, что мы, русские, темный и грубый народ!
Мама звала ее Марусей в те минуты, когда настроение у нее случалось особенно хорошее, когда она бывала на подъеме.
Ветер давно уже разогнал все тучи, небо очистилось, налилось голубизной ясного утра, еще косые лучи солнца излучали ласковое, нежное тепло.
Вода в речке Нерль оказалась совсем прозрачная, а берега песчаные и песок мелкий, прелестный. На другом берегу, который был чуть выше, паслись ухоженные пятнистые коровы.
Прислуга быстро распрягла лошадей, стреножила и принялась готовить лагерь к пикнику.
Первым делом дети позавтракали – тем, незабываемым, хлебом и пахучим сладким молоком из белых эмалированных кружек.
Потом девочки плели венки из полевых цветов для себя и для всех взрослых. У Марии Александровны сохранилась фотография: мама, папа, тетя Полина, дядя Костя, Настя, Лиза и она, Маша, сидят на ковре, расстеленном у палатки, – и все в венках. Фотографировали аппаратом дяди Кости – на треногом штативе, с поджиганием магния в момент съемки. Замечательная получилась фотография – все лица как живые, а на дальнем плане белокаменная церквушка.
Чудом Мария Александровна пронесла эту фотографию через все свои скитания и могла любоваться ею до сих пор. Жаль только Сашеньки не было на этом фото, да и не могло быть. До рождения Сашеньки еще оставалось почти семь лет. Раньше, рассматривая эту семейную фотографию, Мария Александровна никогда не задумывалась о Сашеньке. А сейчас ясно видит, что в левом углу, возле мамы, как нарочно, большая прогалина, много свободного места, как раз для будущей младшей сестрицы. В последние годы Мария Александровна очень часто думает о своей младшей сестре, и в сердце ее давно поселилась уверенность: «Жива Сашенька. До сих пор жива-здорова. Да разве найдешь…»
После фотографирования девочки купались в речке: с визгом, хохотом, с обрызгиванием друг дружки, с ловлей руками мальков на прозрачном мелководье. Правда, ни одного малька им так и не удалось поймать, как ни старались.
Взрослые почему-то купаться не стали.
Мужчины, облокотившись о длинные цветные подушки, набитые конским волосом, принялись играть в свои любимые шахматы.
Мама и тетя Полина все о чем-то шептались и время от времени прыскали, как маленькие.
И оглянуться не успели, ударили к обедне колокола в знаменитой церкви: негромко, звонко, чисто.
Все оделись и чинно пошли в церковь. И у входа, под белокаменным порталом, и внутри по обычаю было разбросано много сорванной руками травы и полевых цветов, сладко пахло травяным соком, увядающими цветами.
Внутри церкви было немноголюдно, полутемно, прохладно, свято.
Батюшка служил, все молились.
Машенька случайно перехватила взгляд папиного денщика Сидора Галушко. Точнее сказать, не перехватила, а увидела, как смотрит он на молящуюся маму. Маша была еще малышка, но она почувствовала, что денщик Сидор смотрит на маму неправильно, что если бы его взгляд заметил папа, то ему бы это очень не понравилось. Очень!
После молебна играли в мяч. Жарили мясо на угольях, на решетке. Взрослые пили вино, кроме прислуги, конечно.
IX
Сашеньке шел девятнадцатый год. Природа брала свое: Сашенька хорошела день ото дня, наливалась нежной девичьей статью.
Природа природой, но не без участия тренера по акробатике Матильды Ивановны Сашенька выросла стройной, крепкой, с гибкой и тонкой талией, с сильными руками и ногами, притом на вид совсем не мускулистыми, а вполне женственными, обыкновенными. Матильда Ивановна знала такие секреты и тонкости упражнений и массажа, которые были недоступны и непонятны обычному спортивному тренеру. Она умела придать юному телу силу и ловкость, не отнимая при этом естественной красоты и гармонии. Такой подход к делу был очень важен для династических цирковых артисток, Матильда Ивановна усвоила его с малого детства. И то, что вложила в нее и передала ей когда-то ее мать – воздушная гимнастка, теперь она передала своей любимой ученице Сашеньке.
Матильда Ивановна научила ее ходить: с поднятой головой, с развернутыми плечами и вместе с тем непринужденно, без малейшей натуги, что называется, грациозно.
– Ходи хорошо – и ты уже красавица! – учила Матильда Ивановна. – Как говорили наши цирковые: на свете нет некрасивых женщин, а есть только женщины с плохой кожей и плохой походкой. Кожей тебя Бог не обидел, а будет походка – будет все!
Сашенька ощущала свою общую ловкость, цепкость, свою хотя и небольшую, но необыкновенно резкую, мгновенно выстреливающую силу. К тому же она была вынослива от природы и неприхотлива.
Она была предельно скромна, доброжелательна, неразговорчива. У нее сложились ровные и, вобщем-то, далекие отношения и с педагогами, и с соучениками. Она никогда не показывала виду, что по своей начитанности, знаниям, по своим ощущениям жизни превосходила многих из них на голову. Водилась со всеми, никем не пренебрегала, но и никого не подпускала к себе близко. В щекотливых случаях она инстинктивно переходила на украинскую мову, что сразу стушевывало ее превосходство над собеседницей или собеседником.
Исключением являлась лишь Матильда Ивановна. Но дружбу с ней все почему-то охотно прощали Сашеньке. Наверное, потому, что для всех и в медицинской школе, и в больнице Матильда Ивановна была кем-то вроде городского сумасшедшего. Такое отношение к ней сложилось, видимо, из-за ее мужа, из-за того, что ей ничего не стоило спуститься на руках с четвертого этажа, из-за того, что она садилась на шпагат, вместо «здравствуйте» говорила «бонжур», вскрикивала: «Але-гоп!», «О-ля-ля!» и прочее… Как снисходительно заклеймили ее больничные фефелы: «Артистка – че с нее взять?»