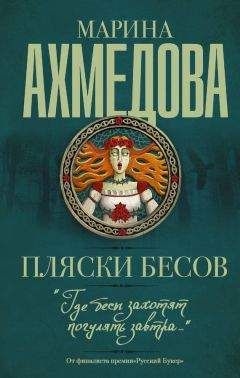Ознакомительная версия.
– Высокими зорями освечусь! Ясным месяцем подпояшусь! Всех непослушных сгною! Кровь их выпью! Заговорю волчьими зубами, медвежьими губами! – приговаривала Светланка, а губы ее, чем больше она выпускала из них поганых слов, тем сильнее толстели и чернели. Лицо ее исказилось, а волосы черные рассыпались по плечам. – Руки-ноги вам выкручу! – продолжила она. – Глаза проколю рогом! Язык прибью колом! Уду на шею – куда покличу, туда за мною! Корень – в землю! Земля – в кровь! Кровь – в воду! По доброй воле – нема вам ходу!
Закончив, Светланка вывалила изо рта черный язык и захохотала хохотом страшным и неприличным. Протянула к дуплу руку и крепко схватила беса за ухо. Так держа его, она отлетела от липы, а Царко поплыл за ней, болтая в воздухе голыми ногами и подвывая от боли. По-прежнему хохоча, Светланка разжала руку, и Царко шлепнулся на землю рядом с Богданом. Тот попятился от него.
– Не узнать мне тебя, Светланка, – бормотал он. – Ты ль это? Ты ли эти страшные слова шепчешь?
– Я, коханий, я, – зашептала Светланка, возвращаясь на землю и представая перед Богданом в том же виде, в каком она явилась ему из озера. – Душу мою пан сгубил. Умереть хотела, лишь бы губ его душных не знать, но просчиталась я, он в душу мою кол поганый вогнал, рогом склизким своим до земли меня приковал. А как освобожусь от них, снова стану той, что слова шептала тебе нежные, той, что любила тебя больше самой себя.
– Зачем же ты замуж за него пошла? – пробормотал Богдан.
– Придет время, и ты все узнаешь, – отвечала она.
А Царко в это время, вобрав голову в узкие плечи, тер ухо и продолжал скулить. Богдан же часто моргал и вид имел нерешительный.
– Кидай на него веревочку! – приказала Светланка Богдану. – Иди! И возвращайся с тем, зачем я тебя послала!
Богдан послушно снял веревку со своей шеи и надел ее на шею Царко. Тряхнул ею, понукая беса, словно тот был конем. Царко пошел. Веревка натянулась между ними. На потемневшем небе показался новый месяц, белесым своим слабым светом предупреждая о скором нарождении самого себя. Троица не смотрела на него, не видела и не ведала. Так ведь на то они – покойница, Богдан и бес – пребывали в таком состоянии, когда можно только на убыль пойти, но никак не в нарождение. Да и что живое могло произойти от покойницы, что смотрела сейчас фосфорными глазами вслед удаляющемуся Богдану, который вел перед собой на веревке беса? Или же от беса, из чресел которого истекали лишь серный яд и мшистая гниль? Или от Богдана, который пришел сюда, к липе, чтоб на ней отдать Богу душу? Так отдал ли ее Богдан Богу? А если не Богу, то к кому же попала она – душа Богданова? А может и так статься, что она, как и жизнь, до сих пор оставалась при нем.
Богдан шел и плакал, а Царко то ли от обиды, то ли от злости щелкал зубами. Стемнело. Деревья стали нависать черными глыбами. Месяц молодой украшал небо, словно порез, сделанный в перемычке между тем светом и этим. На небе встали и звезды. Богдан иногда останавливался на узкой тропе, по которой бес вел его в чащу, запрокидывал голову, щурился на звезды. Бес, не желая останавливаться, тянул человека за собой до тех пор, пока веревка не врезалась в его тонкую шею. Тогда бес, ворча, останавливался. Постепенно из его ворчания вылеплялись слова.
– Погань безмозглая, – приговаривал он. – Несуразность человеческая. Лопнуть глазам твоим. Сдохнуть тебе от голода. Подавиться собственными потрохами. Деревенщина немытая. Рогулина поганая.
И чем дальше от озера они отходили, тем сильнее от беса доносился серный запах злобы и обиды, тем громче произносил он ругательства. Богдан сначала не отвечал, только, дивясь, качал головой. А когда бес взял правее и они вышли на совсем узкую тропку, проговорил:
– Що ж я сделал тебе поганого, что кроешь меня словами такими?
– Що ж я сделал, – передразнил его бес. – А то и сделал, что на липе моей повесился.
– Так я плохого тебе не хотел. Я только сам хотел умереть.
– Молчи! – огрызнулся бес. – Не раздражай меня, немыть! – он заткнул пальцами острые уши. – Как ни учи вас, как ни проучай, не понять вам, рогулям, – не всяк, кто уходит из жизни, смерть встречает. Смерть заслужить требуется.
– Странное ты говоришь, – приостановился Богдан, но Царко потянул его дальше. – Если человек помер, то вот и смерть его пришла. И если он не живой, то значит, он – мертвый.
– Тьфу на тебя! – бесина развернулся и взаправду плюнул под ноги Богдана. – Не замолчишь, брошу тебя тут! – прикрикнул он на примолкшего человека.
Но если Богдан и прикусил язык, то это не означало, что бес пошел дальше молча. С Богдана он перекинул свой злой язык на Светланку, и уж ту мазал самыми страшными мерзостями, оплетал самыми грязными ругательствами.
– Нежить, рыбина гнилая, – бубнил бес. – Курва розастая. Царко за ухо оттаскала, курва. Обидела Царко.
Тут примолк и он, когда средь дерев послышалось заунывное пение мужских голосов. Зыркнув на Богдана, бес поморщился, будто учуял что-то мерзкое, и дал тому знак остановиться. Из лесной тиши, не тревожимой даже шуршаньем богатой листвы, доносились слова песни, которая самому Богдану была хорошо знакома, и если б возникла такая потребность, то он смог бы подпеть, не пропустив ни единого слова.
Украiна – рiдна мати,
ми тя будем шанувати.
Хлопцi, пiдемо, боротися будемо —
за Украiну, за рiвнii права.
Наша сотня вже готова,
вiд’iжджаэ до Кийова.
Хлопцi, пiдемо, боротися будемо…
Но если, по разумению Богдана, песня эта спивалась бравым голосом и в бодром ритме, то певшие тянули ее заунывно и жалобно, словно выли на острый яркий месяц.
Бес повернул туда, откуда шла песня. Так они с Богданом оказались у крошечной поляны, на которой посередке горел костер, а вокруг того сидели или полулежали мужчины. С правого боку от костра стояла сосна, отчего-то сбросившая все иголки и пялившая многочисленные ветки в разные стороны.
Царко приложил палец к губам, давая Богдану знак помалкивать, а сам присел за кустом. Богдан же прислонился к одному из дерев, не выдвигаясь из темноты и оставаясь для певших незаметным. Он внимательно вглядывался в их лица, почти каждое из них казалось ему знакомым, но, где он этих людей видел или когда, Богдан признать не мог. Так что люди эти оставались им не узнанными и одновременно ему знакомыми.
– Що, спит Петро? – спросил один, поднимая голову от костра, когда песня умолкла.
У Богдана сдвинулось что-то в груди, когда он взглянул на говорившего. К глазам подступили новые слезы. Но и тут он не смог бы самому себе объяснить, отчего так реагировал на этого человека. У того были тонкие губы, округлый подбородок, острый и выдающийся нос. Русые волосы, зачесанные назад. А со лба вверх бежали залысины. Но где Богдан мог его видеть? Сельчанин ли тот или кто-то чужой, на кого-то из сельских только похожий?
Чудно Богдану было и то, что песню собравшиеся пели повстанческую. Хоть и была украинцам только что объявлена независимость, а не тянуло Богдана на повстанческие песни – ни тогда, при Советах, ни потом – после освобождения от гнета их. Да, когда самогону выпивал в компании, там, бывало, приходило желание со всеми заодно запеть что-нибудь из тех времен, но первым Богдан никогда не начинал, только подхватывал. А повстанческие песни, как знается, больше всего для грусти, для тоски подходили. Вот и бывало, что Богдан подхватывал какой-нибудь куплет, а тянуть песню до конца неохота было. Песни эти душу ему выматывали, а та на каком-нибудь слове стопорилась и дальше разматываться не шла. И тяжесть в груди после таких песен оставалась. Дед (а он еще живой был тогда) как-то раз, когда песню повстанческую они вдвоем тянули, подмигнул внуку, песню прервал и говорит: «Это, хлопец, на тебя пуд снега упал». Засмеялся еще. А Богдану думай – какой еще пуд? Потом, когда перед Святками в первый год после дедовой смерти на кладбище заглянул, к могиле его подошел, свечку в банке в сугроб ему воткнул и подумал: тяжеленько, наверное, деду лежать под таким пудом снега. А снег в том году, первом без деда, валил в Карпатах так, что дорожки от дома до дома лопатами приходилось прокладывать. Вот и видно было, какие соседи и родичи дружбу друг с другом водили – чьи дома дорожками повязывались. Тут надо сказать, что если от Богданова дома до дома Светланки, то есть школьного директора Тараса, всегда было натоптано, то уж к панову дому никто особенно не ходил. Значит, что наглядно проявляла снежная зима отношение сельчан друг к другу.
Так вот. Когда Богдан накануне Святок стоял у могилы деда, а руки его озябли и занемели, тогда и вошел ему в голову вопрос непрошеный – а чувствует ли дед сейчас тяжесть снега над собою? Вопрос такой Богдан, хоть и не любил он мысли лишние к голове подпускать, поставить перед самим собой полное право имел. А иначе как? Все село, выходит, имеет право верить в то, что накануне Святок покойнички из своих могил вылетают, чтобы отведать ужин, оставленный им живыми родичами? Все село, выходит, имеет право верить в то, что души покойничков выметываются из могил своих на огоньке дрожащей свечи и на нем, как на спорой лошадке, до дома родного несутся? Что влетают в окошко, нарочно для них приоткрытое, и съедают приготовленную для них еду без остатка? А Богдан, что ж, права не имел подпустить к себе мысль о том, что дед после смерти сугроб снега над собой чует, если, повторимся, все вокруг верили в разное небывалое посильней, пожалуй, чем в свободу и независимость?
Ознакомительная версия.