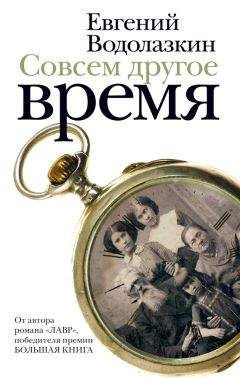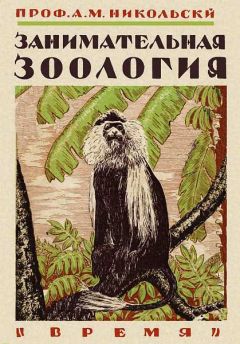Ознакомительная версия.
Речь шла преимущественно о Севастополе, который оказался первой ласточкой коммунистической весны. Соловьев описал, как в городе были развешены объявления, приглашавшие всех бывших собраться в городском цирке для трудоустройства. Несмотря на предпринятые усилия, исследователю так и не удалось выяснить, почему был выбран именно цирк. Стало ли это предвестием побеждавшего абсурда, содержался ли в месте собрания намек на античное растерзание зверями или цирк был попросту единственным известным большевикам залом – только никто из бывших не почувствовал подвоха. Это были невоевавшие бывшие, потому что те, кто воевал, находились уже в Константинополе. Бывшие бухгалтеры, секретарши, гувернантки – все они послушно пришли на площадь перед цирком. Когда площадь наполнилась, ее окружили войсками и натянули колючую проволоку. Пришедших было так много, что они не могли даже сесть. Несколько тысяч бывших простояли на площади двое суток. На третий день их вывезли за город и расстреляли.[23]
И это было только начало. Собрав данные по всем городам Крыма, Соловьев пришел к выводу, что за первые месяцы советской власти на полуострове было казнено около 120 000 человек. Это на 15 000 превышало данные, приводимые в энциклопедии И.А.Рацимора.[24] Серьезно – в сторону увеличения – расходились данные по расстрелянным старикам, женщинам, детям и раненым.
Курсовая была написана вполне квалифицированно, с привлечением обильного фактического материала, удостоверявшегося 102 сносками. К минусам работы проф. Никольский отнес манеру изложения, показавшуюся ему излишне эмоциональной. Он попросил Соловьева убрать риторические вопросы, а также пассажи, выражающие отношение исследователя к действиям красных. Самым красноречивым в работе были, с точки зрения профессора, цифры. По большому счету, они не нуждались в подробных комментариях.
На пятом курсе Соловьев написал дипломную работу на тему Роль латышских стрелков в Октябрьском перевороте и потеря независимости Латвией в 1939 г., где два отраженных в заглавии события оказались у него в причинно-следственной, но главным образом – морально-этической связи. Воюя на стороне путчистов, латышские стрелки, по мысли Соловьева, поддержали режим, проглотивший впоследствии и Латвию, и ее независимость, и самих стрелков. В этот раз риторическими вопросами работа не сопровождалась. Комментарии были минимальны.
Несмотря на парадоксальность мышления юного историка (а может быть – именно благодаря ей), проф. Никольский эту работу опубликовал.[25] Несколько месяцев спустя на статью Соловьева в популярном рижском издании вышла небольшая, но энергичная рецензия за подписью Совет ветеранов.[26] Ее авторы не видели никакой связи между указанными событиями и, в свою очередь, рассматривали возможность альтернативного хода истории в 1939 году. Гипотетическое будущее Латвии им виделось в самых радужных тонах.
Проф. Никольский, который в этих обстоятельствах счел необходимым вступиться за своего ученика, опубликовал свой Ответ рижским ветеранам.[27] Начал он с теоретического введения, в котором обосновывал важность в истории нравственного фактора. По мнению исследователя, нравственная ущербность лишала государства энергии, необходимой для их благополучного существования. Профессор показывал, как она опустошала их изнутри и превращала в пустую оболочку, сминаемую первым же ветром. В этом контексте им было рассмотрено падение великих государств Древнего мира (Греция, Рим) и Нового времени (СССР, США). Касаясь государств менее великих, проф. Никольский привел пример Польши, договорившейся с большевиками в 1920 году и поглощенной ими же в 1945-м.[28]
Вместе с тем, верный своей теории об отсутствии исчерпывающих научных истин, профессор указывал, что говорить можно лишь о тенденции, но не о правиле. В качестве исключения он приводил в пример англичан и американцев, ведших в том же 1920 году за спиной у генерала Ларионова сепаратные переговоры с большевиками и нимало впоследствии не пострадавших. В счастливом для англичан и американцев исходе дела решающим, по мнению петербургского профессора, оказался фактор расстояния и окруженность обоих англосаксонских государств водой. Географический же фактор позволил этим государствам повременить со вступлением во Вторую мировую войну до примерного выяснения обстановки. В этих случаях – и здесь Никольский шел навстречу Соловьеву – вода играла решающую роль.
Впрочем, признавался, подводя итоги, профессор, возможно, его взгляд на вещи излишне мрачен, и у Латвии в самом деле отняли большое национал-социалистическое будущее. С точки зрения проф. Никольского, скепсис его мог объясняться тем, что историки в большинстве своем – пессимисты, поскольку имеют дело преимущественно с покойниками. История – наука о мертвых, неожиданно заключал свое эссе русский профессор, в ней очень мало места для живых.
Разумеется, афористическая форма высказывания прежде всего была призвана подчеркнуть необходимость определенной дистанции по отношению к исследуемому материалу. И все-таки замечание руководителя произвело на Соловьева неизгладимое впечатление. В аспирантуру Института русской истории он поступал в довольно угнетенном состоянии. Мрамор Большого конференц-зала, где он сдавал вступительные экзамены, напоминал ему анатомический театр. С историческими лицами, которыми предстояло заниматься Соловьеву, его примиряло только то, что в период своей деятельности они были еще живы.
От мировоззренческого кризиса Соловьева окончательно спас отъезд аспиранта Калюжного. Помимо научной темы, от меланхолического поклонника генерала Соловьеву достался основной вопрос исследования (почему генерал остался жив?) и одна-единственная библиографическая карточка. Эта карточка содержала – конечно же! – данные книги А.Дюпон. Прочитав книгу, Соловьев нашел тему интересной и мало исследованной. Кроме всего прочего, генерал Ларионов был абсолютно мертв и являлся, таким образом, законным объектом научного исследования. Даже по самым строгим историческим меркам с ним уже можно было работать.
Но генерал был не просто мертв. Еще будучи жив, он, в отличие от многих исторических деятелей, рассматривал смерть как непременный факт жизни.
– Посмотрите на них, – говорил он об этих деятелях, – они действуют так, будто не знают, что их ждет смерть.
Генерал знал, что его ждет смерть. Он готовился к ней, маршируя в предгорьях Карпат и проверяя посты на Перекопе. Уже впоследствии, когда поздно вечером кто-то стучал в его дверь, у него всякий раз мелькала мысль, что это стучит смерть. И уж конечно, он ожидал ее стариком, сидя на молу в своем складном кресле. Он удивлялся, что она так долго не идет, но никогда не жалел об этом.
Однажды генерал сфотографировался в гробу. Взяв с собой фотографа, он зашел в бюро ритуальных услуг и попросил разрешения кратко воспользоваться гробом. Ему не смогли в этом отказать. Генерал оправил складки слежавшегося мундира, лег в гроб и, сложив на груди руки, закрыл глаза. Среди тревожного молчания ритуальных агентов фотограф сделал несколько снимков. Самый удачный из них известен почти так же, как знаменитое фото на молу. Он сопровождает большинство публикаций о генерале. Мало кто знает, что снимок был сделан при жизни этого выдающегося человека. Не подозревая о степени своей проницательности, некоторые исследователи отмечали отсутствие в снимке черт смерти. Более того, используя традиционную для таких случаев образность, они выражались в том смысле, что генерал на фотографии словно спит. На самом деле генерал не спал. Из-под прищуренных век он наблюдал за реакцией собравшихся и представлял, что они могли бы говорить о нем в случае его действительной смерти.
Возможно, ему было обидно, что он не увидит собственных похорон, и он решил устроить своего рода репетицию. Не исключается, что такого рода поступок был попыткой то ли обмануть смерть (я умер давно, чего меня искать?), то ли спрятаться от нее. Да, генерал не прятался от смерти в молодые годы, но ведь в старости люди меняются…
Впрочем, более уместным представляется другое объяснение, исходящее из давних и почти интимных отношений генерала со смертью. Не было ли произошедшее родом любовной игры с ней или – что также вполне допустимо – проявлением особого старческого кокетства? В точности ответить на эти вопросы сейчас уже невозможно, как невозможно сколько-нибудь достоверно рассуждать о взаимоотношениях жизни и смерти в чьей-то судьбе. Можно лишь констатировать, что в конце концов генерал встретился со своей смертью. Когда понадобилось, она нашла его без особых усилий.
Задумываясь о теме смерти в истории генерала Ларионова, Соловьев стремился понять психологию того, в чьей профессии готовность умереть являлась первым и главным требованием. Он пытался прочувствовать состояние человека накануне боя, когда всякое его действие, мысль и воспоминание могут быть последними. Можно ли к этому привыкнуть? Известно, что вечерами накануне боя генерал подолгу гляделся в походное зеркало, словно пытаясь себя запомнить напоследок. Медленно поворачивая кисть руки, он как бы представлял ее лежащей в соседнем окопе. Неразделимость членов человеческого тела казалась ему в такие вечера преувеличенной.
Ознакомительная версия.