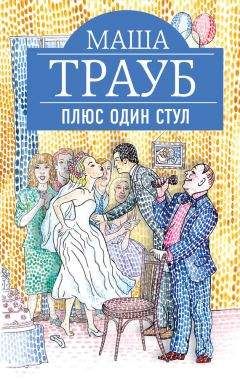Ознакомительная версия.
– И мне баба Роза снится. Пальцем грозит, – признался Петя.
– Вот и мне так же! – ахнула баба Дуся. – Я хоть тебе признаюсь, так, может, отпустит, раз у нас такой разговор зашел. Еще один грех на мне есть. Пообещай, если начну умирать, ты мне не врачей, а батюшку вызовешь, чтобы я исповедоваться могла. Я ведь раньше батюшек-то недолюбливала, не верила им. Святым верила, а теперь вот что думаю. Святые-то тоже людьми были. У кого-то жена умерла, кто-то ребенка похоронил. На то они и святые, что выдержали. А я так не могу. Мне бы поговорить хоть с кем-нибудь, кто молитвы знает, кто поставлен в храме служить. Не просто же так такую работу дали да паству доверили? Да, не просто. Только я раньше не понимала, все недостатки выискивала. А сейчас душу хочу сохранить. Чтобы злости не было. Хочу умереть спокойно, когда час придет. Поговорю, признаюсь, в чем смогу, что вспомню, большего мне и не надо. И в больницу меня не вези. Не вызволяй меня с того света. Не держи здесь. Если поймешь, что я одной ногой в могиле, дай и вторую ногу туда поставить. Трубки не вставляйте. И отцу своему скажи, чтоб не мешал. А уж про похороны сам решай. Если недорого будет, то пусть отпоют. Сейчас же за все платить надо. Умереть бесплатно и то нельзя. А я, дура, ничего не скопила. Только за вещи и держалась. Сколько хлама насобирала, все выбросить надо. Раньше ведь и на дрова можно было пустить, и на барахолке продать или на кусок хлеба выменять. А сейчас ценности никакой в них нет. Вот была бы Роза жива, она бы точно копеечку отложила. И для себя, и для меня. Чтобы вас в расходы не вводить. Перед Розой я виновата, очень виновата.
– Бабуль, ну какой батюшка, какие похороны?
– А вот такие, – строго прервала его баба Дуся. – Уж я-то знаю, как бывает и почему покойники потом к живым приходят и мучают их. Ты ведь не был на панихиде. Роза хотела, чтобы ее кремировали и чтобы тебя на похоронах не было. Но я настояла. Думала, ты должен с бабушкой проститься, как полагается.
– Я помню, – сказал Петя.
– Ты не можешь помнить, маленький был, – отмахнулась баба Дуся.
– Не такой уж и маленький.
День похорон он помнил так, как будто это было вчера. Баба Дуся посадила его в такси, где очень сильно пахло. Немытым водителем, грязным салоном и еще чем-то едким. Петя зажал нос пальцами – он всегда был брезглив.
– Ишь, неженка какой, – хохотнул водитель, но было видно, что Петя ему не понравился. Водитель то разгонялся на ровных и свободных участках дороги, то вдруг резко тормозил и поглядывал в зеркало. Мол, здорово, да? Петю тошнило, но он стоически терпел. Он пытался смотреть в окно, на пол, на сиденье, однако тошнота не проходила. Баба Дуся заставила его съесть соду перед дорогой, как раз от укачивания, но от привкуса соды тошнило еще больше.
– А мой-то не такой, – рассказывал водитель бабе Дусе, которая сидела хоть и рядом с Петей, но очень отстраненно. – Восемь лет, а уже за руль цепляется. Даю ему порулить на даче. Ездили тут отдыхать, триста километров, а ему – хоть бы хны. Отлил на обочину и дальше поехали! А ваш-то, что такой хилый? Уже борода скоро расти начнет, пора девками интересоваться, а ты все при бабке. Я спрашиваю, чё хилый такой? Ты ж мужик! Мужик должен скорость любить! И в машинах разбираться! Мы с моим пацаном уже и карбюратор перебирали, и фары меняли! Ты карбюратор-то можешь перебрать? Я тебе так скажу, если водить умеешь, то не пропадешь в жизни.
Петя терпел так долго, как мог – и запах немытого тела обильно потеющего водителя с мокрыми разводами под мышками на рубашке. И отстраненную бабу Дусю, которая, вопреки обыкновению, вяло поддакивала, а не активно поддерживала разговор, и резкие торможения. Его вырвало на повороте к кладбищу. Прямо на грязные, давно не чищенные кожаные сиденья. На грязный пол, застеленный газетами. Баба Дуся очнулась, испугалась, забеспокоилась, будто пришла в себя. Начала кричать на водителя, не выбирая выражений. А уж когда баба Дуся не выбирала выражений, то даже у шоферов не находилось ответных слов. Петя сидел в собственной блевотине, и этот родной, его собственный запах казался ему менее зловонным, чем запах пота водителя. И баба Дуся, которая быстро «построила» водилу, тоже была его бабушкой. Он снова был под защитой.
– Чё встал? Назад. Быстро! И если хоть раз дернешь, я тебе этот руль в одно место засуну! Понял? Сволочь! Довел мне ребенка! Деньги берешь, а срач развел такой, что сесть противно! Я еще пожалуюсь! Так пожалуюсь, что тебя быстро с работы выкинут! – кричала баба Дуся на водителя. – Ни стыда ни совести! Языком только трепать горазд, а довезти нормально не можешь!
Сквозь полуприкрытые веки Петя видел, как водитель развернулся и поехал назад. Спорить с женщиной, которая не помнила себя от горя утраты, от переживаний за внука, он не посмел.
– Может, остановимся, у меня вода в багажнике есть, замоем хоть малость? – осторожно предложил водитель.
– Я тебе сейчас так замою, что не отмоешься! – проорала баба Дуся.
Назад они доехали плавно, без рывков и в два раза быстрее. Петя лежал на заднем сиденье, на коленях у бабушки, измученный, дурно пахнущий и совершенно счастливый. Баба Дуся вытирала его лицо своим безразмерным, отчего-то мужским носовым платком. Она отвернула ручку и открыла окно почти настежь – на Петю лился свежий воздух, и никто не говорил, что его продует. Евдокия Степановна гладила его по голове, и ему это очень нравилось.
Петя сидел на лавочке около подъезда, пока баба Дуся «разбиралась» с водителем – тот, видимо, посмел попросить плату за испорченный салон. Потом Петя совершенно счастливый сидел в ванной, пока бабуля оттирала его губкой, мыла ему голову и бегала на кухню, где стояла стиральная машина. Только одно было необычно – они были в квартире бабы Розы, а вместо Розы Герасимовны рядом была баба Дуся. Ведь Евдокия Степановна жила с ним в деревне, а в городе – всегда баба Роза. Теперь бабы Розы у него нет. И не будет. Петя заплакал. Только сейчас до него дошло, что бабушка умерла. Что прежняя жизнь закончилась. Потом баба Дуся вызвала соседку – тетю Нину, которая Пете очень нравилась, а баба Роза ее не слишком любила – за «пустобрехство», как она говорила. И Петя заплакал, потому что ему уже не нужно было защищать тетю Нину перед бабой Розой. Он лежал в кровати и смотрел с тетей Ниной телевизор, что было строжайше запрещено бабулей. И никак не мог успокоиться – слезы лились сами собой. Теперь он мог смотреть телевизор, когда захочет. Но совсем не хотел. И тетя Нина его раздражала, и телевизор раздражал, и он понял, что означает «пустобрехство», а баба Дуся уехала. Петя, устав от собственных слез, уснул.
Сквозь сон он слышал, как домой вернулась бабушка. Петя открыл глаза, подумав на секунду, что это баба Роза и сейчас она его отругает за то, что уснул на диване, а не переоделся в пижаму и не лег у себя, как положено. Но это была баба Дуся, которая шепталась с тетей Ниной, потом та тоже заплакала. Он слышал, как Евдокия Степановна спрашивала тетю Нину, как им жить дальше, без Розы. И соседка вздыхала. Петя снова уснул, по-детски порадовавшись, что сегодня ему точно не попадет.
Петя догадался, что на похоронах бабы Розы произошло что-то плохое, даже страшное, и ему, с одной стороны, было радостно от того, что он не видел мертвую бабушку в гробу, а с другой – любопытство заставляло его прислушиваться к разговорам взрослых. Он так ничего и не понял. И вот теперь баба Дуся ему рассказывала, будто каялась. А он сидел, слушал и должен был отпустить этот грех.
– Я ж батюшку позвала на похороны. Думала, что доброе дело делаю. Ну, кому отпевание помешало? Никому не помешало! Даже за самоубийц родственники просят – пусть батюшка отпоет, как полагается. А ведь грех, нельзя за самоубийц служить. Вот я и подумала – забираю у Розы диван, мебель, так дай сделаю что-нибудь хорошее. Отплачу, как могу. Вот батюшку и позвала. А там подруги Розы были. Три женщины. Я их раньше и не видела. Даже не знала, что у Розы подруги какие-то есть. Сколько лет бок о бок прожили, а я ж, получается, ничего о ней и не знала… Так же нельзя, чтобы человека не узнать. Мы же даже не разговаривали толком, только о тебе да о тебе. Ну, о погоде еще, потом о ценах.
Ну вот… Как только батюшка стал молитву читать, одна из женщин начала выкрикивать что-то и плакать – две другие ее выводили, потом снова заводили. Я ж, как знала, так батюшке все и написала – Роза Герасимовна. А эта подруга сначала зарыдала, когда имя услышала. Мне же никто не говорил, что она не Роза, а Рэйзел и не Герасимовна, а Гершевна! Батюшка начинает молитву читать, а эта женщина его обрывает и поправляет. Мол, не Роза покойница, а Рэйзел! И никакая она не Герасимовна! И некрещеная!
Батюшка ничего не понимает, на меня смотрит. А я что могу сделать? Только со стыда сгореть и сквозь землю провалиться. Сама ж ничего не понимаю! Батюшка же не может сразу все запомнить. Вот он то Роза Гершевна скажет, то Рэйзел Герасимовна. Сам нервничает – молодой ведь еще. А эта женщина после каждой его ошибки начинает рыдать, заламывать руки, и две другие ее выводят. Батюшка – у него лицо такое было нежное, детское, бородка клочками росла, аж пятнами пошел. Я стою и не знаю, за кого больше переживать – за эту женщину или за него. Он честным оказался, совсем неопытным, службу прерывал, ждал, пока Розина подруга успокоится и вернется. И опять покойницу Герасимовной называл. Люди стоят, ничего понять не могут. Я вообще к окну притулилась, чтобы меня никто не видел и не слышал. И тут этот их батюшка появляется, который раввин или как там называется. Мне совсем поплохело. Наш батюшка, как раввина увидел, так совсем как рак красный сделался и растерялся, как ребенок. Мне потом рассказали, что он до того только машины новые освящал, чтобы аварий не было, да квартиры, а панихида у него первая была. Кто раввина позвал – я не знаю, думаю, что подруги Розы. Они ему что-то шептать принялись, тот кивал. А мой-то батюшка аж заикаться начал. И путает все и путает, как будто специально. Как мальчик на экзамене. А раввин на него смотрит так с усмешкой и молчит.
Ознакомительная версия.