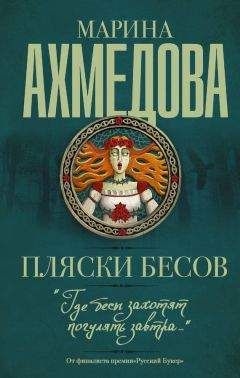Ознакомительная версия.
А Богдан что? Когда понял он, что пощады ему от лесных не ждать, зашарил глазами поверх голов и встретился взглядом с Панасом. Тот стоял поодаль и, кажется, только и ждал, что Богданов взгляд словить. Подмигнул он ему, прищурился. А пламя костерка вдруг взметнулось и как следует пробежалось по лицу Панаска до самого чуба. Тут озарение на Богдана снизошло. Видал он это лицо. Вот еще только утром, направляясь в лес и неся под мышкой все ту же веревку. Не Панаска ли стоял у тына? Не он ли, щурясь по-волчьи, зазывал Богдана выпить хреновухи? Тот же это был Панас, только тут, в лесу, он сделался моложе раз в пять. Сообразил Богдан кое-что и тут же в надуманное поверил. Упивцы эти мужики. А старший – дед его, Богдан Иванович Вайда. Назвавший сына в честь своего батьки. А тот назвал сына – то есть вот этого Богдана – в честь своего. Родись же сын у Богдана и у Светланки, быть бы и ему Иваном – то обговорено давно.
Тяжесть ушла из плеч Богдана, из рук его и из ног. Мягким он стал, податливым. То ли со смертью смирился, а то ли выход нашел из петли. Тогда и руки, державшие его, ослабели, ведь если жертва твоя не сопротивляется, то и тебе для умерщвления ее много сил не требуется. То не секрет ведь для тех, кому умерщвлять приходилось – то ли зверя, то ли скотину, а то ли человека, – силу убийца исторгает из себя не потому, что убить ему сильно охота, а потому, что жертва сопротивляется. А не сопротивлялась бы, то и убивалась бы по большей части без излишней силищи жестокой.
– Хлопцi, пiдемо, боротися будемо! – запел вдруг Богдан сильно и бодро, как эту песню петь и следовало. – За Украiну, за рiвнii права! Наша сотня вже готова, вiд’iжджаэ до Кийова. Хлопцi, пiдемо, боротися будемо! … Давай, дед! – крикнул Богдан. – Натягивай веревку на шею своего внука, лишай его жизни. Не со мною теперь ты пойдешь ранним утром до речки, показать, где рыбина самая большая водится. Не со мной ты яблоню посадишь на краю нашего сада. Не мне ты истории повстанческие расскажешь про то, как Петро к большевикам близко подобрался, и чайник со сладким чаем у них прямо с костра стянул. И про то, как твоего батька на расстрел повели, да пули для него пожалели. Дубинкой забили. А ты его на веревке в ночи до хаты тянул, чтоб обмыть тело его могли. Пусть так и будет. Пускай у тебя другой внук родится. Но уже не я. Давай, дед! Чего ждешь! Делай свою работу – из твоих рук и смерть принять не страшно.
Старший подошел к Богдану. Пристально посмотрел ему в глаза. А что чувствовал в этот миг сам Богдан, стоявший под лысой сосной с веревкой на шее и во второй раз за день смерть готовившийся принять? Любил ли деда, как любил его в тот день, когда гроб его веревкой обвязывал, когда его плечо первым тяжесть дедова гроба приняло, а самому ему еще тогда подумалось – тяжелую жизнь дед прожил, раз гроб тяжелый такой. Вспоминал ли, как через три года еще раз увидел лицо деда, когда бабка, жена Богдана Вайды-старшего заготовилась к смерти и собрала с собой в могилу узелок? Позвала она тогда внука, узел на белом полотне разомкнула, и оттуда тут же глянули на Богдана глаза молодого еще деда – вот такого, каким он видел его сейчас. Была в том узелке еще одна фотокарточка – Степана Бандеры: в черном пиджаке, в белой рубахе, при галстуке, взгляд его был таким же сосредоточенным, как у деда. Когда смотрят вот так, кажется, что это в тебя человек пристально вглядывается, а через время понимаешь – это он вовнутрь себя каждый раз заглядывает. А веса узелку придавал железный трезубец. Тяжелым трезубец был. Только тяжесть ведь Богдану была предназначена – он его за бабкой на кладбище снес.
Деда своего Богдан любил, а этого молодого, от которого пахло сырой землей, он боялся. Боялся сильно, как боятся зверя лесного.
– Странные ты слова говоришь, – произнес тот. – Обдурить меня хочешь? А мы такой беды нюхали, таких пожарищ, что сгорели сердца наши вместе с родичами. Я, он, он и он – давно мертвецы. А ты правду говоришь – тянул я отца своего прибитого на веревочке. Тогда я и помер. А потому и ты жалости от нас не жди. Кровавые мы, лютые. Кончайте его, – приказал он.
И тут из-за куста выступил Царко. Он прошел мимо каждого мужика. Каждому, посмеиваясь, заглянул в лицо. Нагнувшийся к земле молодой месяц отразился в каждом рыбьем глазе Царко. Мужики притихли, обомлели.
– Это кто? – струхнув, спросил старший.
– Это бес мой, – ответил Богдан. – Вы его не бойтесь. Он добрый.
– Где ты беса доброго видел?
Царко остановился возле одного мужика и противно засмеялся.
– Ты – не жилец, – тоненьким голосом сказал он, тыча в мужика длинным пальцем. – И ты – не жилец, – ткнул в другого и снова засмеялся, вскидывая голову к небу и ловя глазами месяц.
Да только когда Царко голову-то опустил, то месяц из его глаз не ушел. На небе его не стало, а в глазах беса два ярких острых серпа засияли. Затряслись мужики, отступили.
– Да вы не бойтесь его, – снова принялся успокаивать их Богдан. – Он хороший. Это я его на веревочке к вам привел. Царко его звать.
Царко уже шел к старшему. Остановился напротив того, и теперь уже бес заглядывал ему в глаза. Покраснел старший, дыхание в нем сбилось, веки задергались, на глаза мокрота вышла, да и в зрачках старшего те же серпы отразились, что упали в глаза Царко с неба. Стало быть, из глаз беса они в него вошли. Старший отвернулся. Зажмурился. По щекам его потекли слезы.
– Леську забудь, – проговорил Царко. – Не про тебя она, а ты – про жену свою. Говоришь, мертвяки вы? А смерть-то вы еще не заслужили. Хи-хи.
– А что мы заслужили? – задрожал голос у старшего.
– Жизнь. Внук твой – Богдан Иванович Вайда – жизни не заслуживает, он отказался от нее. И смерти он не заслуживает. Как с ним быть?
– Не теби, чертяка, это решать, – огрызнулся старший.
– Теперь уже мы тут все решаем, – сипящим голосом, от которого по кронам деревьев прошел ветерок, проговорил бес. – Мы теперь тут все назначения проводим, – продолжил он. – Благословляю тебя на резню, Богдан Вайда-старший. Внука твоего Степана, – оборотился он к Петро, – благословляю на падение. Страшное, черное. Но преисподнюю он потешит. А бесы будут за ним подглядывать – из подпола, откуда ты бежал, бросив Ганну с детьми на смерть.
– Это мой приказ был – не возвращаться, – снова вступил в разговор старший. – Они б все равно погибли. А Петро остался живым и до самой смерти будет бороться за наши идеалы.
– Вот ты и сам подсказал, что делать с внуком твоим, – ответил Царко. – Назначаю его жертвой твоих идеалов.
Бес снова расхохотался. Мужики вздрогнули. По спине каждого пробежал холодок. Бес мотнул головой, выбрасывая из глаз серпы. Две серебряные дуги звякнули друг о друга, взмыли, поплыли по черному небу, срезая те еловые лапы, которые попадались им на пути, поднялись над верхушками, ушли дальше в небо, соединились концами, образовали круг и посмотрели на мужиков одним пустым глазом. Те перекрестились. А наваждение не проходило. О чем говорило оно? Не о том ли, что Бога рядом в ту ночь не было?
– Пора, – позвал Богдана Царко. – Цветок вот-вот явится.
Богдан лежал на животе, чувствуя под собой ростки молодых грабов, прутья вьюнов и шершавые листья молодого папоротника. Тут, на этом участке леса, куда они с Царко отправились от костерка, было тихо, и Богдан думал – а не привиделся ли ему дед? Была ль полянка? И вправду ли дед хотел умертвить его на сосне? Но признать в случившемся видение мешали два обстоятельства – с неба вниз по-прежнему смотрела пустая луна, образованная из двух соединившихся полумесяцев, и серный запах, который источал Царко, слившийся теперь с ночью настолько, что человеческий глаз не мог его взять из темноты.
Странным был свет той луны – яркий по краям, он не освещал ни небо, ни землю. Вокруг было так черно, что, ткни сейчас пальцем у самого глаза Богдана, он бы не увидел. Но постепенно Богдан начал различать очертания кустов, что росли у него под носом. Увидел он и зеленое свечение камней и сразу догадался – то мох. Правду сельские говорили – светится на этой горе мох в темноте, словно кусок дорогого зеленого бархата. Долго лежал вот так Богдан, разглядывая ночной лес, любуясь им и не ведая – то глаза его взаправду видят или разгоряченное сегодняшними событиями воображение рисует?
И вдруг из глаза лунного капля истекла. Побежала по небу. У самой земли остановилась, закрутилась, набухла снизу, заострилась, словно корешок пустила и вот-вот готова пролиться в землю, врасти в нее. «Корень – в землю!» – пронеслось в голове у Богдана. Но капля лунная не пролилась, корень в землю не вошел. Рождаться прямо на весу стал из капли цветок – сам по себе, не опираясь ни на небо, ни на землю. Чудный то был цветок, дивный, неописуемой красоты. Составлялся он из четырех широких у основания, но заостренных к концу лепестков лунно-молочного цвета. Цвета такого ни земля, ни небо породить не могли. Не знал он ни света, ни тьмы, ни огня. Что же ведомо ему было тогда?
Ознакомительная версия.