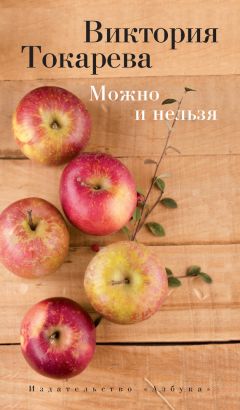Но если опять начать крутить – как бы не сделать хуже. Пусть будет все как есть.
Татьяна пришла в себя. Увидела толстые щеки и рот Ивана Францевича. Спросила:
– Вы из Прибалтики?
– Нет. Я немец. Вернее, мой отец немец.
– Этнический?
– Нет. Современный. Из Мюнхена.
– А сейчас он где?
– В Мюнхене.
«Немцы – хорошие специалисты, – подумала Татьяна. – Наверное, он все сделал хорошо…»
И заснула. Во сне нога болела, как будто ее грызли крысы. И было непонятно, почему стопа начала болеть после того, как ее поставили в правильную позицию.
Рита тоже спала после операции и стонала во сне. В этот момент жизни у них все совпало: больничная койка, боль, страдание на людях и тоскливое сознание, что так будет всегда. И уже никогда не будет по-другому.
Татьяна открыла глаза, смотрела в потолок. У нее была одна мечта: чтобы боль ушла, отпустила. Больше ничего не надо: ни любви, ни славы, ни молодости, ни богатства. Ничего.
«Любовь – мура. Главное, чтобы ничего не болело». Так сказала жена любимого человека. Жена уже что-то подозревала. И защищалась таким образом: любовь – мура. И то, что между вами начинается, – тоже мура. Главное, чтобы ничего не болело.
Тогда Татьяна подумала: какая глупость… Разве есть что-то важнее, чем любовь?
Оказывается, есть. Две целые лодыжки.
Но это сейчас. А тогда она согласилась бы отдать все имеющиеся суставы, только бы видеть, слышать, чувствовать любимого человека. Какая она была тогда красивая, туманная, нежная. Любовь поднималась в ней, как заря.
Через три дня был обход главного врача больницы. Он выглядел как патриарх – седоволосый, значительный, с большими и теплыми южными глазами. За ним двигалась свита врачей. И Францевич среди них.
Остановились возле Риты. У Риты двое суток держалась температура сорок. Послеоперационное осложнение. Рита привыкла к несчастьям. Пусть будет еще одно. Она не понимала в медицине и недооценивала опасности нагноения в суставе. А врачи понимали. Молчали.
– На кого грешите? – осторожно спросил седовласый профессор. Он хотел уяснить степень опасности для себя лично. Что будет делать больная? Какие предпримет контрмеры? Подаст в суд? Потребует денежную компенсацию за физический и моральный ущерб? Обратится в газету и опозорит на весь свет? Или и то и другое?
– Грешите? – удивилась Рита. Ее поразило само слово. – Я ни на кого не грешу.
Профессор успокоился. Больная – обычная темная дурочка с совковой покорностью. Ей и в голову не приходило с кого-то спросить. Она была благодарна за то, что ее лечат бесплатно. На Западе такая операция стоила бы тысячи долларов.
Несколько поколений, включая Ритино, воспитывалось на примере Павки Корчагина. Революция отняла у него здоровье. И в двадцать шесть лет, будучи калекой, он лежал и прославлял эту революцию. И Рита с инфекцией в суставе лежала, исполненная благодарности к врачам. И ее глаза светились от высокого чувства и высокой температуры.
Главный врач величественно кивнул. Отошел. Следующая была Татьяна.
– А где снимок? – спросил профессор.
Францевич неопределенно повел рукой, дескать, где-то там, но случай тривиальный, закрытый перелом, ручная репозиция, ничего особенного, заслуживающего профессорского внимания.
На фоне Ритиного осложнения ее случай действительно выглядел почти симуляцией. Но тем не менее…
Почему Францевич не показал снимок? Татьяне это не понравилось. Что-то царапнуло внутри. Может быть, он скрывал свою медицинскую ошибку?
Татьяна постаралась подавить в себе подозрительность. В конце концов, она – в специализированной больнице. Францевич – немец. Почему надо думать худшее?
Впоследствии Татьяна часто возвращалась в эту точку своей жизни. Надо было ПОТРЕБОВАТЬ снимок. Попросить дать письменное заключение. Надо, чтобы они БОЯЛИСЬ.
Последняя в палате – старуха-Моцарт. Профессор был особенно внимателен, потому что ему звонили из администрации президента. Он уважал два фактора: ВЛАСТЬ и ДЕНЬГИ.
В остальных случаях – как получится. Повезло – твоя удача. Не повезло – се ля ви.
Туалет находился в конце длинного коридора. Татьяне было запрещено наступать на ногу, и она скакала на костылях по скользкому кафелю. И пока добиралась в одну сторону, а потом в другую, три раза обливалась потом и отчаянием.
Скорее бы домой…
Наконец настал день выписки.
Забирать пришли сын и невестка Даша. Даша – стюардесса, они и познакомились в самолете. Она показалась ему заоблачным ангелом. У ангела – тяжелая жизнь. Прежде всего не полезна сама высота. Во-вторых, приходится бросать семью. С ее красотой и знанием языка вполне можно было найти наземную службу. Но деньги… Даша летает. Сын ползает. Кладет паркет, тридцать долларов за метр. Если дубовый – пятьдесят.
Татьяна сначала стеснялась: непрестижно быть паркетчиком. Но сын объяснил: непрестижно быть бедным и сидеть на шее у жены.
Даше и сыну дали кресло-каталку, и они торжественно и весело выкатили Татьяну из больницы.
Возле своего дома Татьяна вылезла из машины и кое-как доскакала до лифта, от лифта – до двери. И наконец опустилась в свое кресло. ВСЕ! Вот где счастье: опуститься в кресло и почувствовать, что ты дома. Что будет дальше – это дальше. А пока что ты – дома.
Потянулись дни, похожие один на другой. Татьяна сидела в кресле с загипсованной ногой, выставив ее вперед как ружье.
Это была репетиция большой старости: неподвижность и зависимость от других.
По ночам не спала от боли. Днем боль притихала, как будто боялась света. А ночью выходила из засады – наглая, как крыса, уверенная в своей силе.
Молодая семья: сын, Даша и Сережа – временно обитала в ее доме, поскольку делала у себя ремонт. Подвернулась дешевая бригада молдаван: они брали в десять раз дешевле, чем московские шабашники, и в двадцать раз дешевле, чем югославы и турки.
Сын воспользовался моментом и перестроил свою квартиру на современный лад: сломал стены, объединил одно с другим. Квартира обещала быть белой и просторной, как в западных каталогах.
Татьяна поначалу обрадовалась совместному проживанию. Дети будут ухаживать за ней, холить и лелеять. А перед глазами прекрасное видение – внук Сережа, что само по себе лучше всяких лекарств. Они будут подавать стакан воды. Приносить книгу и очки. Даша будет готовить и приносить тарелку. И уносить тарелку.
Все так и было. Пока не надоело. ИМ не надоело. Сострадать долго – невозможно. Вот что она поняла. Сострадать можно недолго. А когда тянется изо дня в день, из недели в неделю и не видно конца – надоедает.
– Даша…
– Ой… ну что?
– Лекарство…
– Ну положите рядом. Поставьте термос с водой…
Звонит телефон.
– Сережа, сними трубку, – просит Татьяна.
– А почему я? – И идет мимо.
– Между прочим, я из-за тебя сломала ногу, – напоминает Татьяна.
– Ну что ты такое говоришь? – вмешивается сын. – Что ты на него вешаешь?
Сын прав. Но, в конце концов, имеет она право на сострадание?
Муж сочувствовал в первые минуты, когда узнал. Он мотал головой, как лошадь, на которую сел слепень. Возможно, он сострадает и дальше, но при этом ходит в бассейн, на теннис, читает газеты и смотрит по телевизору новости по всем программам.
Подруги по телефону ахают и охают. Одна принесла костыли, другая сварила холодец, говорят, это полезно при переломах. Третья притащила мумие. Прибежали – убежали. Поохали, отвлеклись. Собственная жизнь подпирает, толкает в зад, бьет в лоб, задает неразрешимые вопросы. Страна с лязгом переводит стрелки с социализма на капитализм. Поезда сталкиваются и летят под откос. Теплоходы тонут в черной ночной пучине. Земля разверзается и поглощает дома, улицы. Поглотила и сомкнулась. Как будто и не было ничего. Конец света. Апокалипсис. На этом фоне – двусторонний перелом лодыжки одной стареющей актрисы…
Татьяна скачет на кухню и по дороге натыкается на свое отражение в зеркале. Голова с растрепанными волосами, как кокосовый орех. Глаза затравленного зверя. Кого? Собаки? Медведя?
У поэта Семена Гудзенко есть слова: «Не жалейте о нас, ведь и мы б никого не жалели». Это единственная жестокая и честная правда. И она себя тоже не будет жалеть. Просто передвигаться метр за метром – медленно и тяжело: скок… опора на костыли и снова скок…
Вот и все.
Через десять недель сняли гипс.
Иван Францевич разрезал специальными ножницами и разодрал руками тяжелые оковы. Татьяна наступила на ногу, и в ее глазах вспыхнула паника. Она наступила на острую боль.
Сделали контрольный снимок. Татьяна ждала. Францевич вышел и сказал, что все в порядке, но снимок должен высохнуть. Современная аппаратура снимает, проявляет и сушит одновременно. Но их больница не располагает такой техникой. Нужно подождать, пока пленка высохнет.
У Татьяны что-то царапнуло внутри. Почему он не отдает ей снимок… Однако выражать недоверие вслух – это все равно что уличить в воровстве или мошенничестве. Она полезла в сумку и протянула ему конверт с деньгами. Францевич взял деньги спокойно и с достоинством. И это успокоило. Если человек берет деньги, значит, считает свою работу сделанной и качественной.