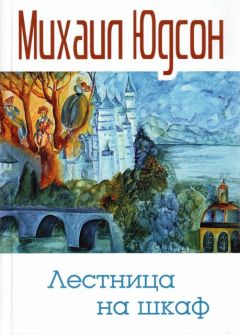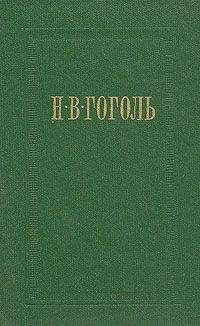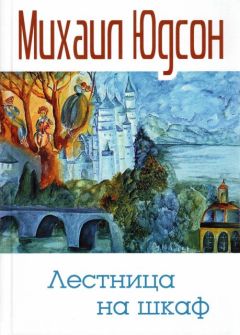— Ша, Совы! С вами, Сыны Минервы, никаких нервов не хватит, ни морд ни лап…
— Позволь мне, Ици, дай изреку зорко. Я вижу, кукареку ловко состряпано, рука юркая, и причем квадратура почерка — привычка, значит, дает знать, осторожно выводит, зазубрено, с потайной закорючкой, а тута вота просто справа налево шпарит машинально, увлекшись видно, бегущий вспять по клеткам, мысль вольно скачет по жердочке, воздух между буквами, точки свежи, разбросано по снегам листа… Это вам не васи-звероловы косматые! Писал умелый ворчун, явно инкв, человек света, в сюртучке, на харчах, из общины. Адда-провидец! Пернато вперто! Зовет к саморасправе — айда, мол… Кто-то наш расстарался.
— Мда, нехорошо. Сами доноси, сами и казни, торкайся… Возня. Ну да ладно. Этот, как его, объект ИБЮ, я помню, действительно безобразничает. Советам не внимает — раз четырнадцать пытались — тупо прет. Грубоват. Отступы часты. Надо его выключить.
— Можно-с. Сосулькой пришибем. С крыши, тишком. Хорев все спишет…
— Нет-нет, хотелось бы большей публичности, стечения существ.
— Так точно, Ици! Как это вы так тонко… Замечено, что толпа жаждет прозрачных намеков, хорового начала, веселых огней…
— Тогда чего прикажете — сжечь прилюдишкно? Для острастки? Как говорится — испепелить? И баста?
— Желательнее — съесть. Жертву принести. Искупительную. А то нам скупостью глаза колют. Сожрать на площади. Фаршированного! Тут уже никаких потом содо-неожиданностей, благих вестей, за исключением изжоги… Пиши, Мем, на полях свитка: «Я, Первый Инкв Ици, данной мне властью повелеваю…»
Субъект ИБЮ, он же — Илья Борисович Юдштейнмансон и прочая, сидел, как на именинах, в кабаке на табуретке и ахал тихо: «Инквдизитор! Великий Целовальник из легенд… Наяву, поблизости. Какое там спасительное слово — анахну? Эх, дедушка Арон, прекраснодушный хрен! Какое там!.. Первым делом, кровь спустят правильно… Слопают с хрустом и санбениту кибенимату выплюнут! Бежать, бежать живей…»
Страшный прожорливый голос продолжал:
— А раз он нас выслушал и прочувствовал, понял и осознал, дрожа всей тушкой за перегородкой, — так давайте его сюда тащите. В отдельных племенах мясо живым отбивают — так оно вкусней получается. Голод долог!
— Позволь мне, Ици. Эй, Вав — Длинная Верста и Мем — Правдивый Ложью, живо ступайте и приведите его.
— Пошел ты в задний проход, Как-Командирчик. Почему это мы одни должны?..
Илья взметнулся из-за стола, его подняло — как сидело, с согнутыми ногами — к потолку, он стукнулся макушкой о потемневшие бревна, ойкнул, его развернуло, повращало, он с наслаждением вытянулся горизонтально, совершил круг над ошалевшим и оцепеневшим залом, затем рванулся вниз, спикировал к окну, вышиб локтем решетку — и вылетел на снег, энергично въехав носом в сугроб. Очки запорошило, одна дужка надломилась. Илья встал по грудь в снегу. Выплевывая снег, выбрался из сугроба. Ныл отбитый локоть (отбили-таки мясо, стервяги), кружился желудок после полета, подташнивало. Из кабака неслась обычная лапотная брань и гортанная клекочущая ругань. Прогневал, полугерой! На крылечко с топотом выскакивали титанические размытые фигуры — как с ужасу показалось, в боевых гребнях и со шпорами. Илья заполошно заметался, замахал руками, пытаясь взлететь, но это как-то не так делается — исчезли невидимые напряженные нити, свободно вздымающие, посыла не возникало. И тогда он попросту привычно побежал — экие неуклюжие простодушные движения, ежели вид сверху — распахнув шубу, увязая в сугробах. А за ним устремилось нечто перистое, клювастое, устрашающее, вроде шагающего эксгуматора. Бух-бух, топ-топ — тектонические сдвиги раз, земля трясется два… «Уже сложилось множество — бегущие следом, — безнадежно думал Илья, задыхаясь, держась за бок, жалея, что нельзя втянуть голову в панцирь. — А из этого множества вычленяется общность скрыто симпатизирующих — следующих за Ним — тайно подражающих ужинам и прыжкам. Такая зе, апория зе!..»
Крики долетали издалека, как с куличек слизнутые, заглавные, прописные, морозно разрозненные:
— Х-В-АТАЙ!
— ЗА Х-В-ОСТ!
«Зимы б замести следы, а я без хвоста неловко, — черепашилось в голове бегущего Ильи. — В окинь бел Х-В!»
Он подумал, что на взгляд сверху он своими перемещениями выводит каракули на снегу, страдальчески марает девственный лист, отбивает ногами челобитную. Сверкающая на солнце снежная целина, трепет крыл, дышащие в спину голенастые гонцы Ици… Вся эта муть. Клякса — хлюп! На сей раз не уйти. Прихлопнут. Изрешетят хвастливо. Илья остановился, вытер испарину, принял боевую стойку, выхватил верный стилет, отважно выставил его перед собой, как бы готовясь продать подороже… И увидел дыру в воздухе. Она возникла решительно из ничего, как буква «О» с наклоном вправо, как будто из прописей в трубе, и какие-то желтые огонечки гостеприимно подрагивали у нее по краям и даже, кажется, тихонько позванивали — доброжелательная дыра! — и Илья сразу, наконец, понял и отчаянно, а что еще оставалось, словно песец в огненный обруч — прыгнул в дыру.
Глава девятая, или К радости (не «Кабак»). Новая земля и новое небо. Сидит на месте, молчит, зеленое — значит, трава. Ратмир и все, все. Кафедра. Веселые прогулки. Надвигается. Опять в путь.Он стоял на странной равнине, непривычно безбелой — снега не было. Небо нависало глубокое и голубое — уже не серо-ржавый глупый колымосковский Железный Купол. Под ногами была трава — и опять не москвалымская красная потрава, хищно лезущая сквозь снег, цепкая, колючая, а буде сварена — дурманящая, тварь пустоши. Здешняя трава сидела на месте, зря не прыгала, дотронешься — зеленое, шелковисто… былинки… Мохнатые небольшие жужжали, пахло сладко, хорошо. Пронзительно чирикающие летающие чертили победительно над головой, крылья сложив в углы — птички Птаховы! Да это ты вот куда угодил, божий человек, сказал себе Илья, Счастливые Луга, страна Арфадия… Сейчас из облака запоют… Отмучился. Илья снял шубу, бросил на траву, содрал с себя роговую кольчугу, оставшись в одной длинной холщовой рубахе. Стилет, подумав, взял в рукав. Вокруг не было никаких следов домов или иных строений. Жилья людья. Дымов, копыт и душ. Сияния огнив. Ничегошеньки. Чисто. По левую руку невдалеке текла река — он видел свободное ленточное струение воды и солнечные блики на поверхности, и вольные всплески в глубине, там кто-то обитал. Справа тянулись небольшие конические холмы, поросшие крупными красными цветами и кустарником, цветущим розово.
Всадник появился на вершине холма и вгляделся, приставив ладонь дозорно. Конь под ним был бел и могуч. Завидев Илью, всадник издал восторженный вопль и, ударив коня босыми пятками, поскакал вниз.
— Илья Борисыч! — кричал он радостно и махал рукой над головою. — Ура!
Цветы летели комьями из-под копыт, развевалась по ветру русая грива всадника. Конь мчал прямо на Илью, но за шаг до него умело встал как вкопанный, всхрапывая и роняя пену. Илья — бежать некуда — раскрыв рот, рассматривал животное с седоком. Животное было похоже на колымосковских горбунков, однако вдвое выше и почти бесшерстное. Белоснежные атласные бока лоснились, играли белым рафинадом (да уж не багряным!). А седла не имелось. Ангелам седла не надо, они так. А седок… Это был тот самый чудотворный спаситель, срубивший лучеметом башку снежному змею. Сейчас на нем не было серебряного комбинезона, он явился голый по пояс, в коротких кожаных штанах, бронзово загорелый, улыбающийся во весь рот, светлые выгоревшие волосы до плеч, тонкие юношеские усики — полоской над губой. Мускулы шарами так и катаются под гладкой кожей — крепок отрок! На шее у него на тяжелой золотой цепи висел оберег, «щит пращуров», такой же, как у Ильи на вые на истертой вревочке.
— Не узнаете, Илья Борисович? — весело спросил отрок. — Это ж я — подшефный ваш мальчик-с-пальчик из 5-го «В»… Еще на закорках меня возили…
— Мальчонка-опекун! — ахнул Илья. — Карапуз-всезнайка! Вытянулся-то как…
— Развился, — скромно сказал отрок. — Зовите меня теперь просто Савельич.
— А где это мы, мой Савельич?
— На Кафедре, Илья Борисович, — белозубо объяснил отрок. — А мы слышим — «калитка» хлопнула… Ну, наконец-то, думаем… Долго ж вы… Ладно, садитесь, поехали.
Илья неуверенно оглянулся, переступив босыми ногами.
— Но где… э-э… тележка?
— Какая там телега! — засмеялся бывший мальчик и приглашающе похлопал по крупу коня. — Сюда садитесь, за меня будете держаться. Поскачем, как братья полей и шатров!
Делать нечего — Илья вздохнул и полез взбираться. Савельич помог, протянув твердую загорелую руку. Конище, спасибо еще, стоял спокойно, гордо потряхивая хвостом. Илья кое-как вскарабкался и примостился позади отрока, вцепясь в его широкий кожаный ремень. Савельич чмокнул губами, присвистнул повелительно — жеребец взвился на дыбы, ржанул и рванул с места. Причем нет, чтоб ритмично передвигать копыта — он пошел скакать гигантскими прыжками, чуть не под небо. Илья поначалу обмер, закрыл глаза и поник, но потом быстро привык, и ему даже понравилось. Дух захватывает! Вскачь! Земля прочь из-под копыт летит! Запах солнца и полыни! Савельичье счастье! Через ручей переезжали с круглыми камнями на дне, и Илью обрызгало, и он засмеялся. Въехали в густой лес и, наконец, перешли на шаг — нагибаясь, отводя мохнатые ветви в сторону. Отрок попутно рвал с кустов голубые ягоды и кидал в рот. Тут не чувствовалась степная жара, пахло уже не полынью, а хвоей. Начально вечерело, ранний сумрак упал. Блеснуло в закатных лучах круглое, как блюдце, лесное озеро. Протоптанная дорожка вела к нему, виднелись дощатые мостки, камыши, и на берегу — красивый бревенчатый дом с остроконечной, как у старинных колымосковских теремов, красной черепичной крышей. Словно ожила картинка из дедароновских притч про заколдованное местечко. «Юдце защемило!» — всплакнул бы дедушко.