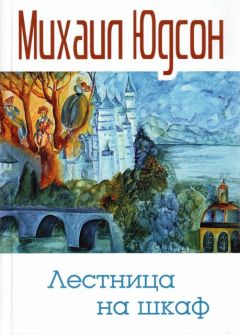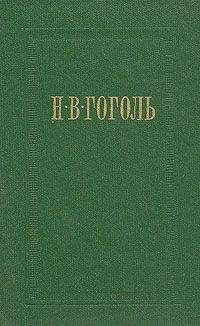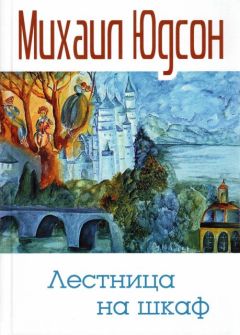Частенько посещали чудесные гости — Лиза Воробьева с Капитолиной Федотовой. Тогда отшельное протиранье штанов у камина превращалось в замечательные посиделки. Другое дело! Вино, хохот, разговоры. Озвучивались озорные вирши, ворошились угли и прошлое. Холодная блондинистость одной и разбитная жгучесть второй — живой пожар в бардаке! — приятно возбуждали. «Огонь — там внутри зарыт гон, — размышлял Илья, глядя на тлеющие дрова. — Инстинкт соединенья». Он школьно шутил, что у него сейчас лизаветинская эпоха, зарожденье понизовой федотовщины.
— Имена, аукалки имеют много актуалий, — говорил он дребезжащим учительским тенорком, строго подняв палец (девки покатывались). — Философия имени отца Сергия… Вот в Колымоскве купецкой сроду в кабаках клики: «Чайку, чайку! Да погорячее!» А ведь по-эллински чайка означает — Лариса… Впридачу звали бурю! Надымбали! Причем учтите, гонорея — не деепричастие… Или, скажем, помянем обрывочно — тамошние три шкварка для волохва Марка — матушки-гусыни, лисички-сестрички, орлы-куропатки…
Чарующий смех, русалочьи стоны:
— Улетаем!
Сидели славно, пока Илья не говорил бодро:
— Ну что — спать?
Койка в покоях была широка, а перина пухова. Слева шевелилось шелковое, справа гладилось атласное. «Жить Учителю надлежит долго, — думал Илья блаженно. — Тогда только плоды подрастут и созреют, и он сможет воспользоваться сладостию своего ученья. Счас Арфадия! Марфинька на пять сделала это, искусница…»
Дивный танец в лежании, кружении, волнении, и тут же элленические плечи, и ножка ножку смугло вьет, музыка чмоканий, скрипичный ритм кровати, и Илья (старичок-учитель!) скоро уставал, как рояль таскал в кустах, и брал передых, но девы и без него ведали, что сподручней делать друг с подружкой — Лиза, естественно, лизала, Капа капала, а Илья, улыбаясь, наблюдал. Ну, дают!
Потом этак плавно наступало утро, в палисаде уже ждали своих любимых наездниц конные мужья, посвистывали — хватит ковыряться, пора и честь знать, мотай по домам! Расцеловывались до следующего раза. Они уходили босые, обнявшись, распевая: «Лес проснется — только свистни под моим окном!» Илья рушился досыпать.
Порой, когда надоедала зеленая зима, холмы в коврах цветов, беззаботная размеренность дней, утомительная вдрызг добропорядочность бытия — все это домоседство Кафедры — Илья совершал веселые прогулки. Он шел к шкафу в спальне и облачался в серебристый комбинезон, не пробиваемый ни пикой, ни стрелой. На ноги напяливал сапоги-снегоходы на воздушной подушке. Тщательно застегивал молнии и липучки. Вешал на плечо лучемет — лазерный карабин «Иглач». Смотрел на себя в зеркало, сурово корчил рожи, подмигивал отражению — «В путь в муть готов!» После чего спускался вниз, седлал Бурьку и ехал в степь к ближайшей «калитке». Место, где она возникала, обычно обозначалось столбом вроде коновязного, но Илья и без этого наловчился ее находить — воздух в этом месте вроде бы дрожал и плавился, плыл, рябью покрывался, а потом — ух ты! — начинала открываться дыра пространственно-временного перехода, «калитка». Бурька ржала, отшатывалась, приникала к столбу, чтоб не всосало и не унесло, а Илья, махнув прощально серебристой рукавицей — нырял в Колымоскву.
Он падал из пустоты на снег и катался по нему, серебристый, а снег падал на него и скатывался, как с горки, не облипая, серебрясь, — человек есть слепок природы его родины, спелось Слепым Го, безродным бродягой, дитем семи городов-нянек. Вишь, дервиш! Антик-встантик!..
Илья шатался по Колымоскве, хмельной и веселый, ошалевая от добрых чувств и множественных возможностей дать каждому свое — к примеру, в глаз. В верхний левый клык ему на Кафедре впаяли «коронку» — волновой низкочастотный, что ли, псиногенератор (как-то так) — стоило слегка оскалиться и москвалымские людишки тотчас садились на задние лапы, передними закрывали голову и принимались тоскливо выть. Жутью веяло, ужасом накатывало. Приходилось срочно успокаивать — кровь пускать, стилет, науськав, в ход пускать (потом по обычаю его об красное обтереть — на нем неприметнее). Пущай! Обновление! Постепенный переход из сущего в кущи! С патрулями-монахами хуже было — у тех колпаки железные, поглощали поле. Тех Илья из лучемета смело бил — они, значит, вопия, мечась, тыча воздух пиками, стремились, утопая в сугробах, к спасительному монастырю, к железным вратам, под защиту стен — а он их из засады отважно жег на снегу — как свечки ставил. А после читал по числу:
— Тридцать три! (Я)… Двадцать три! (Х)… Три! (В)… Шесть! (Е)… Вот это лото! Итого, дедушка, шестьдесят пять, бисеришко мелкий, шахматишки-палочки, чуть не добрал до Зверька…
На него как-то крестовый поход наспех объявили. И смех и грех воедино. Вышли кучно, неся перед собой некроиконы, защищающие от напастей — на гробовых досках писаные, с запахом тлена и пятнами зелени, источающие «живую влагу» — от нее снова в жизнь вылезаешь. Ну, он им и восстал из сугроба! Весь серебряный, лучемет в правой руке раструбом вниз — щас вострублю! — и взлетел Илья невысоконько, перебирая ногами, как бы поднимаясь по невидимой лестнице, и сверху принялся поливать огнем — так все воинство бегом назад, побросав пики, чуть ворота не выдавили и старца-игумена кошмарного своего Ходячего Ослепшего едва не задавили, костоломы. Они его бросили одного, когда Илья стал куражиться, и он, достославный Св. Осл, упрямо кружился на снегу, выставив вперед руки, шаря — ох, суета слепоты! — выкликая жалобно:
— Ванятка, Петро, Павлушка, Ерошка, Лукашка, Колюнька Васильчиков, Феденька…
Куды!.. Далече!.. Они, примитивные, хомосапые, еще даже фитильных ружей на рогатинах не изобрели, не удосужились, привыкли пиками да луками обходиться. А Илья им — горький урок, чтоб знали, ежели выживут, что дело дрянь. Зарубки себе, стиснув зубы, на предплечье резал стилетом — по примеру охотника Глаголя из Люка — скольких добыл.
Возвращался Илья на Кафедру усталый, но умиротворенный, жарко рассказывал:
— Ох, я им и врезал нынче! А чего, любоваться прикажете ничтожными — а то развелись игумены всякие, микрополиты… Треть монастырской слободы спалил! Уже легенды рождаются про меня — сверзились, мол, и ползут крючконосые чудовища со звезд из-под земли, безжалостные треножники-ижицы, а в зубах огонь горит…
Доктор Полежаев (Тимоха-медун), периодически мягко беседуя, опасаясь за психику отца учителя, предлагал Илье, чтоб не переживать, воспринимать «веселые прогулки» как некую компьютерную игру на снегу — со своими стрелялками, уровнями, набором очков-человечков — только вживую. Да Илья и так не страдал. Навязчивая идея у него была незамысловатая: «Монастыри — на слом!» Предполагался возврат к мирному домашнему славлению богов, тихо переходящему в ловлю чертиков. При этом Илья считал, что важна сбалансированность, равновесие системы, принцип включенного третьего — если уж лупить монахов-патрулей, так чтобы и былым соседям по подъезду рикошетом тоже доставалось, да и школа с Директором — очаг рассады! — не должна остаться в стороне! А то нехорошо. Племя, чай, одно, из тех же сугробов, семя едино, все сородичи — москвалымь белоглазая. Истреблению должны подвергаться не просто самые активные и злобные самцы, а стохастически — уж кто попадется. Тогда явления Ильи станут пугать поголовно, он будет вне убогой логики и жалких попыток рассчитать вес гнева Анти-Его. Хорошо бы еще, чтоб от него сияние исходило! Но вряд ли стоит зряшно мешать мифы — и без того тлеющее сознание этих существ тщится увязать увиданное с неслыханным. Энергизм заблуждений. Дабы народец не путался, Илья везде аккуратно рисовал свой знак — шестиугольник с ресницами — «Зрак Мрака». Предначертательная геометрия! Он оставлял Зрак повюду — на монастырских стенах и в сожженной прихожей жирного вельможи-булошника, на пытошной доске в разгромленном присутствии приказной избы и на серой от свалявшейся грязи коже (как на сырой глиняной табличке) Старшего по подъезду, пригвожденного голым с распоротым брюхом и мотающимися выпущенными кишками к входной двери в подъезд поутру — дверь покачивалась и поскрипывала, когда ходили… Эх, люди-соседи! Снежком мело…
Уже шепотом утверждали, что Илья — Целитель Холма, отсекающий нечестивых, а про глазастую, о шести углах, отметину его сказаны пророчества в старинных берестах… Чиню недуги, весело думал Илья. Сначала — учиняю, а после — исцеляю посильно. Несу меч и собираю мочу.
— Тянет, тянет вас в Колымоскву, тятенька учитель, — вздыхал Савельич. — Влечет неизбавимо, как об дверцу, будто назад в детство, к закату ближе, в тот заснеженный сад, где грациозный песец играет мячом — помните притчу?
— Да-а, детство… Дедушка Арон кашлял-говорил: «Знаешь, как я твоего отца Боруха малышом взращивал? С обрези учил только добру, кха-кха… Абсолютному, кха… И когда отдал в казенное учение, то на первой же перемене подошел к нему жлоб — воплощение Жла! — и толкнул. И, упав, Борушка заинтересованно спросил: «Что это он сделал?» — «Толкнул». — «А что это?» Кха-кха… Тебя, Элияху, мы уже инако качали-воспитывали — чтобы попадя в яму или ко дворцу — не пропал».