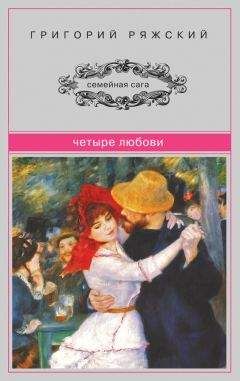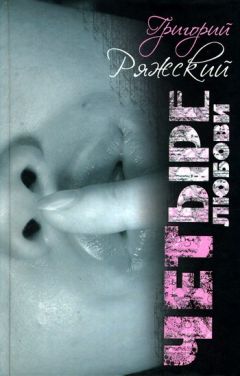– Помню бульдозер, ну и что?
– А то! Тебя тогда Глотов сильно предупредил, а я выходил на тот момент вниз. У меня там мормышка поставлена была, а кивок я с краю приладил, проверял. Ну рыбак я, рыбак! – Он схватил себя обеими руками за ворот рубахи, но не рванул, а просто потряс.
– Ну и что? – не понял Лева, – Про дыру ладожскую помню, что мокрый ты был – тоже помню, ну и что с того?
– Э-э-э-э, парень, – озадаченно протянул Грек. – Видать, тебя Глотов некрепко попугал… А сам ходит такой… гордый… образованный. Правда, здоровается всегда первый, тут я ничего на него не скажу. Ну, дело его, как хотите. Надо мне, правда надо. – Он почти умоляюще взглянул на Леву и потянулся рукой к костылю.
– А чего ты отделить-то мне хотел, часть какую-то? – спросил под завязку разговора Лев Ильич, понимая, что на этот раз разговор не заладился.
– А-а-а-а, это? – Он уже поднялся, но задержался. – У тебя сегодня гудело, где не надо, или не гудело?
Объяснять дважды не пришлось. Лев Ильич моментально сообразил направленность греческого инспектора. Он смутился и покраснел.
– Вот и все, Лев. Погнал я… – Грек повернулся к Леве спиной и растаял в воздухе…
Пару лет после освобождения Генрих перебивался случайными заработками вроде изготовления книжных обложек в не известных никому издательствах. Платили мало, но и качества не требовали. И то и другое было для Геньки вразрез с представлениями о жизни человека, заплатившего родине долг полной монетой. Несколько раз он мотался в Новомосковск, где начальник тюрьмы по старой отсидочной дружбе свел Геника с местным заказчиком. Тот владел кафе при рынке и двумя забегаловками у вокзала. Кафе Генька оформил, а от вокзальных точек отказался – представил себе этап и стало невообразимо противно. Прежние связи к моменту выхода его на свободу прервались почти целиком – поменялись люди, да и компьютерная молодежь оккупировала творческие точки, не умея совершенно рисовать, но зато отлично набив руку на типовых приемах графического дизайна. Один раз Льву Ильичу удалось воткнуть Геньку художником на картину к приятелю-режиссеру. Но деньги быстро закончились, фильм закрыли и группу распустили.
Тем временем строительство за забором у Казарновских приближалось к стадии внутренней отделки. Маленькая позвонила отцу и сказала:
– Пап, меня тут сосед наш по Валентиновке, Толя Глотов, передать просил. У него предложение есть для художника. Дизайн интерьера новой дачи. От и до. Обещал хороший гонорар. Пойдешь?
– Пусть позвонит мне, – поразмышляв, ответил Геник. – Я должен подумать.
К тому времени Люба Маленькая поступила в Театральное училище им. Щукина с первого захода и к разгару строительства заканчивала первый курс.
– Ты представить себе не можешь, Лев, – сразу после вступительных экзаменов рассказывала она отчиму, положив ему руку на плечо. – Какие же туда кретины поступали, кого только я там не насмотрелась. Из Калмыкии один был, толстый, с прыщами на лбу, глазки как щелочки, заплыли совсем. По-русски ни бум-бум почти. Что ты думаешь? Приняли! – Она закатила глаза. – Его отец с замдиректора договорился, есть там грек один, Мистакиди, он устраивает, если надо. – Лев Ильич вздрогнул, просто так, беспричинно. – Так вот он через калмыцкое представительство спонсорство для училища организовал якобы, а все знают – деньги его собственные. Он миллионер там, а живут в степи, чуть ли не в юрте, а рядом с юртой джип стоит. Он вроде того, что кумыс консервирует и в Грецию отправляет на экспорт. А сына в артисты…
– Славный тебе жених, – усмехнулся Лева. – Будешь по степному уложению жить, пить кумыс и гонять по степи на джипе.
– Нет, Левушка. – Она нежно посмотрела отчиму в глаза. – Я собираюсь жить между «Аэропортом» и Валентиновкой, мне и здесь хорошо. Мы же, какие-никакие, а Дурново все-таки, да? – Глаза ее смеялись…
Как ни странно, но предложение Толиково Генрих принял и приступил к разработке проекта интерьера.
«Черт с ним… – подумал про друга Лев Ильич. – Знает, наверное, что делает. И с другой стороны – опять ведь паром его вынесет, не в первый раз. А Толик этот глотовский мерзкий все же тип. Хоть и улыбается постоянно…»
К концу лета у Глотова Генрих закончил. Жил он все это время, пока шла отделка, там же, у него на даче. Исчез он тоже незаметно, в одночасье, и бывать у Казарновских теперь стал значительно реже. К тому времени был уже октябрь, и семья переехала на «Аэропорт». Любовь Львовна дергалась, и снова начались претензии:
– Лева, почему Генечка не заходит? Опять кто-нибудь его обидел?
На это Лев Ильич раздражался не на шутку:
– Почему опять, мама? Ну кто, скажи на милость, хотя бы раз в этом доме обидел Генриха, кто?
Генечка утекал из ее рук, как желе сквозь пальцы: липкость и аромат оставались, а основная масса проваливалась насквозь, ненадолго задерживаясь. Любаша в этой связи снова была приближена, но все же при Генькиной досягаемости она не могла рассматриваться Любовью Львовной как сравнимая замена своего божества. Просто рядом не стояла.
Через год, когда Геник заявился к Маленькой на день рождения с очередным рукодельным портретом, все было как обычно: куртка – на спинку кресла, старуха – в дверях спальни со счастливым недовольством в глазах, затем – очередная головная боль; к столу не вышла, а уж потом – уединение с Генечкой в спальне, как бывало всегда прежде. Генька на этот раз, испытывая небольшое чувство вины за длительное невнимание к вдове, решил начать отработку культурной программы первым.
– Вот, Любовь Львовна, – сказал он, обращаясь к старухе, и протянул ей свернутый в трубочку плакат. – Специально для вас захватил. Это афиша «Новой оперы», «Риголетто», Колобовский. Слыхали? Очень занятная, посмеетесь. Горб на рентгеновский просвет в классическом обрамлении. Красный полупрозрачный фон с фиолетовыми позвонками.
Дурново взяла плакат, но разворачивать не стала, а отложила в сторону.
– Мне, Генечка, не до смеха сейчас.
– Что такое, голубушка? – по дежурной схеме поинтересовался Геник и незаметно глянул на часы. – Что случилось?
Он не хотел слишком засиживаться, его ждала работа. Заказ был довольно срочный и поступил от солидного господина. Надо было успеть ко времени.
– Случилось, – с плохо сдерживаемым величием ответила бабка. – То, что я никому здесь больше не нужна, случилось. Давно случилось.
– Это вовсе не так, дружочек. – Он взял старухину ладонь в свои руки. – Уверяю вас.
Любовь Львовна в эту часть вслушиваться не собиралась. У нее созрела собственная программа дальнейших жизненных испытаний судьбы.
– Вот что, милый. – Она стала серьезной по-деловому, без величавости, но и не демонстрируя игривый идиотизм. – У меня есть кое-что очень для меня дорогое. Это память об Илюше, о войне, о Ладоге, о главном его произведении… – Она задумчиво помолчала. – Мой талисман, одним словом. – Геня старался быть внимательным слушателем, проникшись серьезностью момента, и преданно глядел старухе в глаза. – Я хочу, чтобы это хранилось у тебя. Я устала находить этому место в моем доме. Придет время, и я заберу это обратно. А пока… – Она обвела глазами комнату. – Пока мне неспокойно как-то… Неуютно…
– Нет проблем, Любовь Львовна, – успокоил ее Генрих, внутренне довольный тем, что может услужить мучительнице по пустяку. – Все сохраню, давайте, голубушка.
Вдова запустила руку под халат и вытянула оттуда круглую металлическую коробку из-под монпансье, образца примерно конца пятидесятых. Генрих помнил эти коробки и коробочки с давних пор, со своего детства. Еще будучи пацаном и получая в подарок такой гостинец – тогда это еще называлось ландрин, – он долго не открывал упаковку, оставляя лакомство на потом. А когда наконец откидывал круглую крышку, то выяснялось, что разноцветные кисло-сладкие кругляши слиплись в один большой и толстый пупырчатый блин. Он разбивал его молотком и собирал осколки, крупные и почти в пыль, тоже разных лакомых цветов, и не менее вкусных, но обратно они уже не помещались, и тогда он запихивал в рот то, что не влезло, нетерпеливо разжевывал и, закрыв от наслаждения глаза, долго-долго сосал…
Коробка была перетянута свалявшимся от времени бинтом, крест-накрест. Круглый торец ее был по всей окружности залит толстым слоем сургуча. Геник попытался засунуть ее в карман, однако туда она не втискивалась, и тогда он просто сунул ее за пазуху, подтвердив серьезность сохранных намерений. «Главная шестерня» облегченно вздохнула и развернула плакат с оперным горбуном:
– Ну теперь давай поглядим, голубчик, что ты мне принес. Какое либретто, говоришь, Квазимодо?..
Через три дня после дня рождения Любы Маленькой Любовь Львовна не вышла из опочивальни ни к завтраку, ни к обеду. Зная о неврастенических проявлениях свекрови, особенно участившихся за последний год, ни Люба, работавшая в Левином кабинете с самого утра, ни Лев Ильич, поздно вставший и перешедший после завтрака в гостиную, чтобы не мешать жене, не посмели побеспокоить мать вопросами о самочувствии, дабы не получить очередную отповедь о притворстве родни. Первым забеспокоился Лева, когда понял вдруг, что за все это время владычица не позвала его ни разу обычным призывным криком, и тогда он к ней заглянул. Голая Любовь Львовна в одном приспущенном шелковом чулке рассеянно и молчаливо бродила по полутемной спальне, натыкаясь на предметы обстановки. Каждый раз, сталкиваясь с очередным препятствием, она внимательно исследовала его на ощупь, пробегая руками снизу вверх и как бы убеждаясь в непригодности его в качестве искомого предмета. Под ногами у нее, на полу, валялись три скомканные бумажки, Лева потом прочел их и выбросил, потому что ничего не понял из записанной матерью бессмыслицы. Там было начерчено старческими каракулями: «Комод сверьху… У Илюши, четьверьг… Левая штора – булав…»
В хрустальной вазе, стоявшей на полу, налито было немного темной жидкости, впоследствии оказавшейся фамильной мочой. Таким образом, Лев Ильич стал первым свидетелем сумасшествия Любови Львовны Казарновской-Дурново, собственной матери. Врачи потом объяснили, что это был инсульт, и, если бы сразу посадить больную на внутривенную капельницу с тренталом, то последующих паралитических осложнений, которые в результате она приобрела, можно было бы избежать. Хотя…