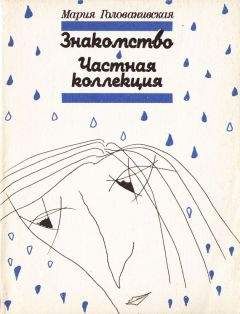Ознакомительная версия.
Огромный бело-золотой зал, наполненный одинокими женщинами за сорок – концерт, низкорослый светловолосый юноша с красным лицом за роялем – красивые ушли из искусства, где теперь можно увидеть красивых? Рослых, улыбающихся, умеющих мало и элегантно есть? Мы ходим с ними по разным улицам, пьем из разных чашек, мы никогда не встречаемся глазами, да и вообще, зачем нужна эта красота? Неужели жизнь не побила, страсть не покрыла лицо морщинами, думы не побелили висков? Неужели от книг и слез не ослабли глаза, а плохая пища не дала избыточного веса? Чем ты вообще докажешь, что жил?
Смотришь чужой фильм с шикарными горными видами, голубыми бассейнами среди пальм и– стеклянными столиками с напитками, мужчинами и женщинами целующимися, кричащими друг на друга, переживаешь, когда кто-то кого-то убивает из пистолета, и с догадливостью двухметрового полицейского пытаешься понять, что же все-таки у них там такое произошло?
* * *
Беспорядок такой, что берегов не найти. Бурлящее море, из которого время от времени показывается одинокая пятка тонущего Икара.
На стенках лифта – имена, сокращения, знаки – вот так-то, учись выражаться коротко.
Небо не касается твоей головы. Забираешься в щели и хихикаешь там тихо, неслышно, ехидно.
Тиканье, скрип, жужжанье – плаваешь вокруг мягко, стараешься не задеть. Заденешь – упадет, упадет – рассыплется, рассыплется – развалится. Осторожно, на цыпочках, с потными от напряжения руками. Старайся, ухитрись.
Она уже почти есть, почти что появилась, вот она, надежда, угощающая всех присутствующих конфетами, она трясет своей дед-морозовской бородой, а потом, махнув на прощание русалочьим хвостиком, отправляется одаривать новогодними подарками всех, кто томился и плакал в ожидании ее.
* * *
Ты наблюдаешь за мной из окна. Я чувствую. Всегда чувствуется, когда кто-то смотрит на тебя сверху. Наверное, и муравей чувствует, когда его рассматривает человек. Я чувствую, но не оглядываюсь. Пытаюсь побороть неловкость движений, неуклюжесть шагов. Я сяду в автобус, и через четверть часа ты приклеишься к обмотанной изолентой телефонной трубке и станешь проверять, дома ли я.
– Ты домой?
– Да, мне должны звонить, сам я позвонить не могу, нет телефона.
– Кто?
– Так, по делам…
Ты будешь звонить мне каждые десять минут, а я, вскочив в квартиру, положу трубку рядом с телефоном и побегу в ванную умываться. Ты – охотишься, я – убегаю. Пусть лучше ты думаешь, что я треплюсь по телефону. А что, если, не дозвонившись, ты сядешь в такси и приедешь ловить меня здесь?!
Снова прозрачный, как стекло, воздух. Снова шарф, сбитая набок шапка. Я иду, дрожа от страха, что будет, если ты встретишься мне по дороге?
На этих обледенелых скамейках всегда что-нибудь вырезано ножом. Напротив старушка в облезлых матерчатых ботинках кормит голубей пшеном. По всему городу рыскают твои двойники, шарят глазами, таращатся, но им никогда меня не узнать, потому что на моем лице сияет улыбка.
Небо цвета загорелой девичьей кожи, днями сквозь ватные одеяла облаков струятся потоки невесомого парного молока, бледнолицые рассветы, грозные черные вечера, сопровождаемые сладкими трелями цикад, – «Вечера на хуторе» – я говорю о тебе, длинноносый чудак, ходячий призрак, шарахающийся от всякой скользящей по мостовой тени, скрывающийся от малейшего сквозняка.
Ласково настроенные, круглые глаза лошади, в каждом из которых отражается треснувшая луна, сено покалывает ноги, и какой-то человек подбирается к берегу, чтобы сполоснуть в реке измазанные глиной сапоги.
Попадаешься в вязкое тесто метафор и выползаешь весь липкий, с перепачканным в муке носом, вытираешь грязные руки о влажный фартук и ждешь, когда наконец запахнет сладким приготовленное тобою кушанье.
Очень часто, когда крыть нечем, еще задолго до окончания игры, в тысячный, в миллионный раз, изучив свои бесконечные семерки, красивым жестом, прочерчивая в воздухе параболу поднятой картой, кроешь все своим последним козырем – трефовым тузом.
Хлеб заплесневел: не надо было уезжать так надолго. Очень неприятно, когда что-нибудь портится в твое отсутствие. А выбросить сразу – жалко.
Это еще довоенное пальто с белыми костяными пуговицами в черных прожилках. Сейчас в моде старые вещи. Ретро смотрится хорошо, а позапрошлогоднее – плохо. Вещи как коньяк, их нужно выдерживать долго, и чем дольше выдерживаешь, тем ценнее вещь. Вещи как время.
Время примешивается ко всему, с чем имеешь дело, растворяется, и что-то оно портит, а что-то красит. Немногие люди умеют стареть красиво. Обычно красивого старика сравнивают с многовековым дубом. Мощным, ветвистым, с грубой истрескавшейся корой и тысячелистной зеленой кроной. Суровая красота. Некоторые старость сравнивают с осенью. С золотом листьев, лежащих у подножья оголенных деревьев. Важно, что именно держишь в голове, когда стареешь. Слякоть и бездорожье, слабость и немощность сломанного ветром увядшего стебля или наполненный настоявшимся чуть горьковатым соком ствол, невысокий, но крепкий, с широким основанием, неподатливый и своенравный.
Говорят, что старое дерево долго скрипит. Это как бывает с отломанной сильным ветром сосновой ветвью, которая не полностью еще оторвалась от дерева, и нужно долго присматриваться, чтобы найти ее глазами. И эта ветка, если она была дорога, отрываясь наконец, больно бьет по тебе, если даже упадет рядом и вовсе не нанесет увечья.
* * *
Ладно, думаю, поваляюсь, почитаю чего-нибудь.
Не все же время бегать за всякими шизиками и подлавливать их на честном слове. На то и существуют толстые журналы, чтобы заполнить вынужденную паузу, дать неожиданный аккорд, узнать о другой жизни, более ароматной, чем твоя, просветиться насчет того, как бывает, и как нужно, чтобы было. Вот она, твоя добыча, под тем или иным соусом, лежи, потягивай через соломинку, просветляй сознание!
Тут – кирпич, там – тупик. Придется объезжать. Бесконечная морока, то педаль западает, то мигалка отказывает, менты все время цепляются, почему, мол, машина грязная. Из загорода, говорю, еду, а на улице грязь, весна.
Второй поворот направо, кафе, пельменная, табачный киоск – вот мы и дома, и снова, и снова толстый журнал, толстая книга, толстая газета, за мной, читатель!
Месяц май сказал месяцу июню: «Друг, а почему у тебя такая зеленая борода?» – «Потому, – ответил месяц июнь, – что ты – салага, понял?» Так-то, не из «Сатирикона» мы, не молодостью козыряем.
Они все болтали и болтали… как у них языки не отвалятся, честное слово! Вот она, каприза цивилизации, прежде чем до дела дойти – поболтай часок-другой. В этом, мол, твое основное человеческое отличие. И голуби воркуют, и петушок с курицей перекудахтывается, и воробушки поддакивают друг другу, нет здесь никакого отличия, а тот, кто это утверждает, просто не умеет видеть то, что творится вокруг него!
* * *
Солнце, пробивающееся в щель между шторами, делит комнату на две половины огненной светящейся полоской. Видно, как луч разрезает воздух, в котором копошатся пылинки, шерсть от пледа, пепел. Нужно было убрать пепельницу. Не отрываясь смотришь на солнечную полоску, тупо, не моргая. Звуки. Льется вода. За окном кричит ворона, ребятишки возятся в песочницах, скрипят качели. День. Хлопнула дверь парадного – кто-то вышел или вошел. Легкий звон, звук воды. Моют посуду. В соседней комнате расшторили окно. Звякнул совок, зашуршал веник – утреннее умывание квартиры. Зазвонил телефон. Может, не здесь, может, у соседей? Звонки прекратились, тихий голос. Длинный рассказ тихим голосом. Что-то упало – значит, вытирают пыль.
Розовый свет сквозь веки. Пирожные на большом блюде, утренний кофе в толстостенной белой чашке, варенье, тостеры.
– Вы намерены еще долго ухаживать за моей дочерью? Девочка страдает. Решайтесь.
Варенье капает с хлебца на скатерть, чашка разбилась о кафельный пол.
Мы разговариваем на голубоватой от вечернего тумана лужайке.
– Маргарет, я вернусь. Ты увидишь, не пройдет и месяца. Мы будем вместе, Маргарет.
Ветки стегают по лицу, я бегу весь в слезах, она сказала, что не хочет меня больше видеть. Взбираюсь на какую-то насыпь, черные камни валятся у меня из-под ног, шумно отзываясь при падении. Одежда разорвалась, по щекам течет пот. До отхода поезда осталось две минуты, и я бегу, расталкивая нарядных людей, говорящих на красивом непонятном языке. Поезд трогается, но мне все-таки удается его догнать, этот пресловутый уходящий поезд.
* * *
Жаль. Бесконечно жаль. Чертовски, чертовски жаль. Когда мы пришли, его' уже не было. Сначала долго звонили в дверь, стучали в нее ногами, потом, обессиленные и понурые, начали медленно спускаться вниз. Мы вышли на улицу, свернули на бульвар и, загребая ногами гравий и мокрые листья, побрели, погнали себя обратно, назад, туда, откуда пришли.
Я очень люблю смотреть в бинокль, потому что ты одновременно и далеко и близко, ты видишь, а тебя – нет. Бинокль – это отсутствие всякой взаимности, всегда выгодное тому, кому она не нужна.
Ознакомительная версия.