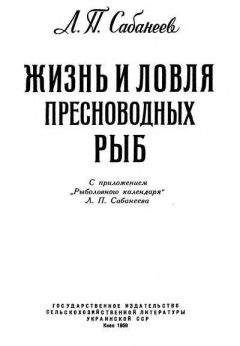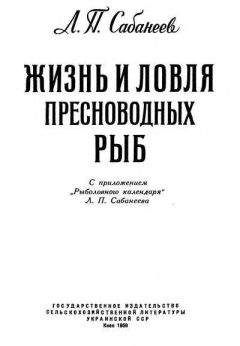Китайцы кажутся мне настоящими «новыми русскими»: они по-прежнему могут всё, что нам уже не по силам. Они способны вдыхать жизнь в мёртвые холодные пространства, «прирастать Сибирью», строить новые города. Недавно мы тоже всё это умели.
Перед поездкой в Суньку отыщешь дома мятые бумажки с изображением Мао. Потом – автобус, граница. Перехода в другое измерение, как бывает при девятичасовых перелётах в Москву, не происходит. Границу чувствуешь носом, попадая в душную волну «китайского» запаха – возможно, масло или что-то другое, имеющее отношение к еде. Когда въезжаешь в Суньку, самое интересное занятие – разглядывать вывески. «Ресторан жареного южноамериканского мяса “Юра”», «Татуировать Джулю», «Мебельный подземный город “Володя”», «Меховой Саша», «Спинка машины», «Парикмахерская “Руки-ножницы”», «Китайский самовар из хвостов коров», «Рыба во вкусной кострюле», «Спецбольница по искусственному выращиванию зубов», «Шуба магазин прямая продажа с фабрики норка бобёр и кусочки», «Магазин шерстяных джемперов “Бичи”»… В Суйфэньхэ каждый говорит по-русски. Вместе с юанями охотно берут рубли. Харбинское пиво, которое когда-то начали варить в Китае русские, китайская водка-гаоляновка…
Корею я сначала видел с русского берега реки Туманной. Потом приходилось бывать на самом Корейском полуострове – и на Севере, и на Юге. Экзотичнее, конечно, КНДР – мавзолей Ким Ир Сена, пленённый американский корабль-разведчик «Пуэбло», «музей зверств американцев», небоскрёб гостиницы «Янгакдо» на островке посреди речки Тэдон, пиво «Тэдонган», лозунг «Не завидуем никому на свете!» на бумажных вонах, портреты Маркса и Ленина на площади Ким Ир Сена, циклопический музей подарков вождям в священных горах Мёхян… Южная Корея похожа на развитую западную страну, но с поправкой на восточность. Корейцы – тоже тихоокеанцы, приморцы. Море у нас общее. Приезжая в Корею, не чувствую, что это заграница. Те же деревья, та же кардиограмма сопок по горизонту, прорисованная будто бы небрежной, а на деле точной рукой художника… Мы густо прокореились – от «чокопая» и «доширака» до «Самсунга» и Gangnam style’а. Даже наш приморский кедр, говорят учёные, на самом деле – «корейская сосна». Мы куда более корейские, более японские, более китайские, чем сами привыкли думать.
* * *
Стихийность моря я впервые почувствовал не на глубине – на мелководье. В одну из бухт под Находкой далёкий океанский шторм гнал гигантские волны, хотя здесь, у берега, ветра не было. Меня, бессильную щепочку, выгибало назад до хруста позвоночника, ударяло грудью о дно так, что перехватывало дыхание. Я понял, что волна запросто может убить. Прежде «наше» море – прибрежное, рыбалочное, заоконное – казалось мне одомашненным, прирученным, но оно, как дикий зверь, остаётся морем всегда. Силой, не соизмеримой с человеческой. Похожее ощущение я испытывал в детстве, цепляясь на ходу к товарным поездам и чувствуя, как меня подхватывает сила, для которой я – ничто.
Прибойная полоса интересна сама по себе как пограничная зона между двумя мирами, этим интересно и Приморье – граница между сушей и морем, Европой и Азией. Есть много теорий на тему того, что жизнь – то ли современная человеческая, то ли жизнь вообще – возникла именно в полосе отливов и приливов. Если эти теории верны, нам следовало бы молиться Луне, генерирующей эти самые приливы-отливы – мерное дыхание океана. Возможно, конструктивная человеческая неустроенность, ощущение неполноты жизни, постоянная тяга к иным сферам, щемящая незавершённость, проклятая неудовлетворённость собой – все это именно оттого, что человек возник на рубеже стихий и никак не найдёт себя ни здесь, ни там.
Приморский климат – той же природы. Море и континент нагреваются и остывают с разной скоростью, и воздушные массы на границе моря и суши всегда конфликтуют. Отсюда – постоянные ветра, перетаскивающие погоду и непогоду туда-сюда. На берегу нет ни континентальной, ни океанской стабильности и предсказуемости. Наверное, это влияет и на людей.
Географически Приморье, конечно, не Россия. Я много лет разгадываю странный иероглиф полуострова, на котором живу. Иероглиф, написанный переплетениями сопок и падей, зданий и дорог, ветров и течений, восторгов и отчаяний. Может быть, он должен читаться «Хайшеньвэй», или «Урадзиосутоку», или «Си-хо-тэ». Я бы разработал новый иероглиф, который на русский приблизительно переводился бы как «япономорскость». Я – тихоокеанец, и потому Сан-Франциско или Токио для меня важнее Парижа или Лондона, хотя рос я на книгах о Париже и Лондоне. Я принадлежу не только русскому континенту, но и азиатским ландшафтам и акваториям.
Дальний Восток – название привычное и гордое (Восток – там, где солнце восходит, Запад – там, где оно падает-западает, отсюда же «западня»). Я не собираюсь отказываться от почётного звания дальневосточника, но сам термин «Дальний Восток» неточен и полупренебрежителен. Термин «Тихоокеанская Россия», предложенный романтиками-академиками из Дальневосточного отделения РАН, лучше и глубже. В Дальнем Востоке – лишь территория, и то какая-то «дальняя», в Тихоокеанской России – открытость океана (меня, правда, и название «Тихий океан» не устраивает: какой он, к чёрту, тихий).
Приморский край – термин тоже неидеальный: приморских территорий в России много, от Калининграда до Анадыря. Уссурийский край – выразительнее, но оставляет за кадром и море, и Сихотэ-Алинь, и всю южную часть края, фокусируя внимание на важной, но локальной реке Уссури. Тихоокеанский – слишком широко. Сихотэ-Алинский? Япономорский? Владивостокский? Мы все здесь – маргиналы, то есть люди, живущие на краю.
Приморцы – те, кто у моря. Слияние приставки при- с корнем – мор- родило новый смысл, отослав к латинскому primus – «первый». Этим любят пользоваться авторы местных брендов.
Мы не просто приморцы, это слишком общо, мы – япономорцы. Среднерусские пейзажи близки мне культурно, но страшно далеки географически. Японские и корейские ландшафты мне родные, но, боже мой, как их коренные (условно коренные; Лев Гумилёв говорил, что «исконных» земель нет, история динамична) обитатели далеки от меня внутренне. Есенинские рязанские раздолья – наши, но и маньчжурские сопки – наши ровно в той же степени. Для японцев я навсегда останусь «гайдзином», чужаком. Но гайдзином – пусть не столь явным, «внутренним гайдзином» – я буду и в Москве. Не то – в любом дальневосточном или сибирском городе, где люди смотрят по-нашему, пусть этот взгляд часто бывает мрачен.
Приморцы – особое племя. Я – из приморцев, и эта самоидентификация куда ёмче, чем прописка в том или ином «субъекте» Российской Федерации. Одних приморцев я видел в Неаполе, других – в Сан-Франциско, третьих – в Магадане, четвёртых – в Нампхо, Пусане, Осаке и Иокогаме. Приморец – не административно-географическая, но ментальная характеристика. Есть горцы, а есть приморцы.
Ещё есть «поморцы». Приморье и Поморье, расположенные на разных концах евразийской диагонали, рифмуются не только фонетически. Побывав в Северодвинске, стал сравнивать северо-запад с юго-востоком: военный судоремонт, подлодки, адмирал Кузнецов, которого считают своим и в Архангельске, и во Владивостоке. Тут навага – и у нас навага. Тут «хрущёвки», придуманные Лагутенко-дедом, – и у нас они, и везде. Северная камбала, правда, носит кокетливые рыжие пятнышки – интересно, поняли бы друг друга беломорская и япономорская камбалы? Северная железная дорога: Архангельск, Холмогорская, Плесецкая, Вологда, ещё какие-то станции с характерными названиями на – кса или – кша… Безумно далёкие от моего мира места – но всё равно близкие. Плесецк – это космодром (а космос – наше всё), Холмогоры – это Ломоносов (тоже наше всё). Из Белого моря по камчатскому полигону «Кура» стреляют ракетами «Булава» и даже иногда попадают. Здесь мне нужно было побывать, отметиться именно для того, чтобы потрогать Россию с другого бока её по-прежнему титанического тела, которое, как ни странно, едино, несмотря на различия широт и ландшафтов.
Не только на Камчатке, на Сахалине или в Магадане, куда попасть с «большой земли» можно лишь по воде и по воздуху, допустимо говорить «материк» об остальной России. Я тоже могу сказать «поехать на материк», имея в виду, что мы живём на его кромке, у воды, чем отличаемся от настоящих «континенталов». Материк – это там, дальше, а у нас тут – берег. Мы живём не на материке и не в воде. Мы – полуостровитяне. Хабаровск, несмотря на его дальневосточность и грозно-прекрасный Амур, не вызывает у меня такого восторга, как Владивосток или Магадан с Петропавловском-Камчатским. В Хабаровске нет моря, нет особого воздуха, пронизанного свободой, некоторой необязательностью и даже раздолбайством, берущимися от того ощущения непрочности, летучести, непредсказуемости жизни, какое бывает только в портовых городах.