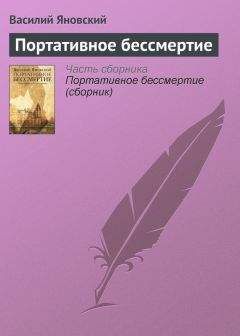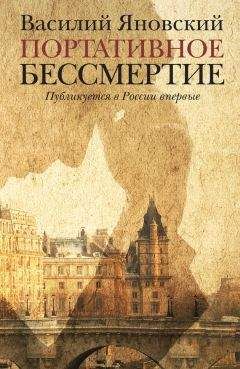Раза два, при встречах, она мне жаловалась на разные неопределенные симптомы. Древняя старица, негибко-подвижная, с большими синими глазами (при серебристых волосах); целый день работает (часто освежаясь вином), одинаково презирает: попов, врачей, патриотов, коммунаров (помнит их); вечером развлекается полицейскими романами; никогда не отворяет окна, уставленного горшочками, карликовыми растениями, завешенного тяжелой, пыльной, оплешивевшей бархатной портьерой (комната полна мебели: когда-то жила в двух комнатах – муж, детки… все это прочное, лучше нынешнего, кровати без малого сто лет – не выбрасывать же?). Вековое платье, косынка, хрупкие ножки, шажки на лестнице: ребенка или крупного насекомого (птицы с людской стопой). Исследовать такие мощи у меня не было охоты, да и боязно, как разбирать средневековые часы. Доскрипывай тихонько. Но она слегла – «простудилась», – и пришлось. Неожиданно обнаружил опухоль в районе восходящей порции толстой кишки и общее, несомненное отравление. «Может стать злокачественной», – объяснил я (именно о раке она постоянно заговаривала со мною на лестнице). Она думала всю ночь, наутро (о, как уже сдала) сообщила: хочет в госпиталь, операцию. Если я ей помогу, не забудет этого. «Все равно, – призналась. – В мои годы не любят человека только потому, что он по паспорту внук или кум. Я еще владею кое-чем и могу отблагодарить достойных». Но обстоятельства сложились по-иному (к лучшему). Я ее видел еще раз. В тот день странно протоптали за дверью. «Чьи шаги?» – удивился я и выглянул (соседние двери тоже приотворились). То старуха Руссо, боком, – топ, топ – пронеслась по лестнице к уборной (раньше туда не ходила: по утрам выносила горшочек, бормоча и звякая ключами). Она промчалась, будто спасаясь от погони, растерянная (кто, откуда?), пробуя бежать, не зная, к чему это поведет и где именно враг. Что-то бесконечно потерянное, доверчивое и загадочное было в ее взгляде, в этом движении, с каким она, заколебавшись, стала, чего-то ожидая, и вдруг снова шарахнулась. Изнеможенно торопилась немедленно что-то предпринять, изменить и сразу обрывала, оставляя недоделанным (тотчас же стрельнула назад из уборной, невнятно-громко-отрывисто отвечая на вопросы); проницательно и в то же время тупо-безнадежно озиралась, как смертельно ушибленный, подбитый зверь, щелкая зубами (от холода и страха); близкая, еще рядом, но уже недосягаемая – как замок с поднятыми мостами, как шахтеры, заживо погребенные (чьи крики слышны на поверхности), как студенты в первое мгновение после провала на экзамене, – отгороженная страшным двойным пологом, отшвырнутая: зная все, ужасаясь и не понимая хорошо того, что она постигает. В ту ночь ее разбил паралич. Я раза два наведался к ней, однажды посидел ночью (тогда же сообразил: комната больше – сколько мебели), отворив окно. Она превратилась в малютку: словно давешний визит ее в коридор и сугубое беспокойство были последними мудрыми актами зрелого сознания. Кротко умоляла все сходить к внукам и отобрать ключи; но видеть их не желала: волновалась от одного присутствия их за стеною. «Вы говорили с Альбертом? – спрашивала по-детски доверчиво и в то же время подозрительно. – Что вы ему сказали? Que je voudrais bien avoir mes clefs [29] », – повторяла и, укоризненно вздохнув, смежала веки. Под вечер, в моем отсутствии, она, как говорится, преставилась, за всю растянутую жизнь серьезно прохворав только неделю. Сразу в покой ворвались внуки; заперев дверь, включив сильную, ранее припасенную лампу, они до зари копались, перерыли ее жилище, спеша найти все, что спрятано, до приезда «того» (ему отправили телеграмму). В матраце обнаружили всего шесть тысяч (а рассчитывали на сто). Среди ночи испортилось электричество – зажгли свечи; в колеблющейся мгле за портьерой ходили две тени: выстукивали стены, разбивали мебель, отдирали половицы (Бюта позволил). Соседи выглядывали, шепотом обменивались догадками у своих порогов. Изредка Руссо выходили в коридор: освежиться… выпивали по стакану чего-то и, отдышавшись, возвращались к работе. Именно в одну из таких пауз я заметил перемену, происшедшую с мадам: появилось новое выражение (тень, складка) на этом чувственном, смуглом лице с глубокими, темными очами, – я бы сказал, сияние гордости, приятия своей ответственной человеческой доли. Она стояла в шали, брошенной на плечи, обнаженные руки, крепкие, молодые, женственно и покорно свисали; увидав меня, она дрогнула, привычно, едва заметно, повела головою, словно подставляя, открывая губы, щеки чужому взгляду, и вдруг необыкновенно серьезно, мужественно-печально и торжествующе-зрело посмотрела на меня, точно говоря: да, вот она жила, трудилась, рожала, теперь мой черед, должна трудиться и любить, а когда умру, то оставлю порожденных мною, не пальцем деланные, они тоже будут расти, любить и умирать. Гордость страдания, общения озаряла ее и радостное, двусмысленное сознание своей полноценной земной судьбы; она выросла и даже минутно поумнела. Денег больше не оказалось (впрочем, если и нашли, то в их интересах было умолчать). Стук, мародерский шепот смолкли лишь под утро. Тень экспресса с бешенством мчалась по мне, клокоча и давясь. Она умерла в четверг, а хоронили – во вторник. Чета, обшарив все углы, рыскала теперь по городу, проверяя старые следы у нотариусов; предполагалось, что ночь они проводят с покойницей: но дверь была заперта – я пробовал – и ничего подвижного за нею не чудилось. Внук же, «тот», не приехал (говорили, что адрес на телеграмме перепутали). А старушка между тем запахла. Соседи нашего этажа, бледные, подавленные, стадно разбежались – кто куда. Являлись днем, крадучись, за какою-либо принадлежностью кухни или гардероба, объясняя свое исчезновение случайными – у каждого особенные – частными причинами. Рядом остался только я один, тщетно пытаясь сохранить внутреннее равновесие, захваченный, вовлеченный, брошенный на край этой всасывающей, пустой, безвоздушной (межзвездной) ямы, образующейся вокруг смерти; смаковал ее последний выход, загнанный блеск глаз: надежда, растерянность, страх… (слышала голоса за спиною, боялась оглянуться, побежала, зная – не удастся, ноги подкашиваются). По запаху я незаметно пробирался назад, восстанавливая в памяти все трупы, павшие на мою долю: госпиталь, морг, анатомический театр, Константинополь, утыкаясь в последний (первый), – мать. Она лежала в мертвецкой губернской земской больницы. Я вошел, несколько отстав на лестнице, домашние расступились, серьезно глядя на меня, чего-то ожидая (подталкивая); склонился, поцеловал этот высокий, ледяной, нежных линий лоб (который не мог принадлежать матери), словно увидав его впервые (как и все лицо: сверху вниз). Полуфальшиво улыбаясь, прослезился, чувствуя себя актером в главной роли и следя за своими движениями, горделиво поддаваясь чарам героического, полупреступного одиночества (как потом часто в жизни). Бабку-Руссо хоронили во вторник. Соседи подписались на венок, столь же обязательный на улице Будущего, как боковые, высокие ограды. Под влиянием Жана Дута я тогда считал разумным бороться с лицемерием быта (в этом месте ломать дугу косности, инерции) и отказался сделать взнос, что больно уязвило всех, потому что, зная о моей с бабкой относительной дружбе, ждали соответствующей суммы. «Даже одного франка вы не можете дать?» – испуганно спросила правая соседка, ведавшая подписным листом, и вдруг благодарно расцвела. Нежно простившись, она выпорхнула. К вечеру меня посетил Бюта; повозившись у крана, он смущенно осведомился: «Правда ли?..» Еще человек пять меня допрашивало. Марго говорила снизу (сокрушенно): «Какое разочарование для порядочных людей». Только господа Руссо не участвовали в склоке. Ко вторнику все приняли вполне достойный вид: полный траур, креп. Похороны были стереотипно-торжественные. Нам всем прислали извещения о дне и часе выноса тела (а потом благодарили, даже отсутствовавших). Автомобили, цветы, люди в казенных ливреях подействовали ободряюще на жильцов. «Нет, человек не падаль!» – решили все, начиная успокаиваться, приходить в себя. Потому что в те дни, когда старуха пованивала взаперти, их сознание стало давать опасные трещины, все побежали с насиженных мест, кроткие и растерянные. Кортеж получился отличный: дамы из двух домов Бюта. У окон застыли обитатели нашей улицы; высовывались по пояс, безобразно торчали их головы: из каждой щели по одной (или симметрично – две, три). Отверстия малые, а особи крупные, неподходящие (как в тире – если попасть – мгновенно меняется освещение, распахиваются ворота, бьет набат, мчатся пожарные, а на веранду высыпает толпа с несоответствующими случаю лицами). Все изуродованы трудом, старостью, сладострастием, обжорством, неудовлетворенными фантазиями, вином; одни возбужденные, другие сонные, известково-бледные, клопино-красные, похожие и неповторимые. Здесь окон не отворяют (простуда); штор не поднимают (выцветут обои); в гостиной прыгают, как по кочкам, с подстеленной газеты на дощечку и снова на газету (для сохранения ковра, линолеума, паркета); мягкую мебель пеленуют в чехлы (моль); лечат секретные боли таинственными средствами. Вселенная полна злыми посягателями, как отстоять человеку здоровье, имущество… («Это уродство, закон равновесия, – учил Жан Дут. – Их пустили на кривую плоскость или вывихнули бедро; стремясь компенсировать наклон, все подались в противоположную сторону, соответствующе изогнули хребет: так не упадешь»). И все же они как-то жили, отгороженные тюремной решеткою, цеплялись, пробовали, надеялись, пускали слепые, чахлые ростки, сдавались, беременея, завещая семени выполнить миссию, найти разгадку, катясь к неведомой, внятной цели подобно снежному кому. Иногда я различал ветхие черты родины. Так старик, рывший яму, выпрямился на миг и мучительно вытирал пот со лба (мне почудилось: Россия); в праздник пьяные каменщики затеяли драку: один, убегая от ножа, хотел спрятаться в соседнем подъезде: невидимая (знакомая) рука захлопнула дверь перед носом жертвы. Еще один раз обитатели нашей улицы выстроились у своих окон и порогов, когда мадам Бюта после родов возвращалась домой. Она шла в нелепом розовом платье, с огромной шляпою (мы ее никогда не видали в шляпе), куцая – свисали груди – бледная, отекшая, изнеможенно-счастливая. Рядом свекровь (консьержка), сухая, древняя: орлиный нос, кружево морщин, беззубо-серьезная улыбка рока… несла младенца; спереди сам Бюта в праздничной одежде, непривычно-бездеятельный, сконфуженный и сдерживающий накипающее раздражение. Они быстро просеменили посередине мостовой в какой-то вдруг образовавшейся предательской пустоте (эскорт, караул со знакомыми чинами; но кому придет в голову поклониться?). Прошествовали (он спереди, все ускоряя), скрылись за коленом улицы у шлагбаума. Комнату бабки Руссо, где я поселился, отремонтировали, заново оклеили; на место ее кровати поставили мою: я лежал и смотрел на те же срезы карнизов, рамы окна, край неба с трубою. Тут годы маялся человек, и вдруг – нет, пусто. Не то что переехал, перешел, переселился, юркнул, – а вообще уголовная тайна. Девочка правой соседки упорно расспрашивала, что стало с бабкой Руссо, отвергая все компромиссы: была хозяйка, деспот, имела привычки, симпатии, и вот сорвали с петель, выкорчевали – пуф! – как объяснить. Первое время еще тянутся разные нити, подобно струнам (куда девалась скрипка?). А у Бюта родилось бебе. Было их двое в комнате, как ни прикидывай, двоим – оставаясь теми же – трудно выкроить равного им третьего. Откуда он чудесно вынесен, пущен? Допустить один прыжок, а там уже все логично и закономерно: середина жизни растолкована. Мне приснилась старуха Руссо в серой, сурового полотна длинной рубахе. Протягивая голую, черную ручку в сторону камина: «Там, там, – шептала лукаво, – там». Я понял: деньги в камине. Рука поднялась выше: в трубе. Я очнулся гордый, благодарный. Камин во время ремонта замазали – надо пробивать дыру, – решил пока не спешить: мне деньги к чему… ценна связь, благосклонность. После завтрака я ездил в город, к Виру (за исключением летних месяцев, когда я у него совсем поселялся). До Орлеанских ворот – трамваем, а там метро (с пересадкою). Итого (туда и назад) шесть раз менять вагон. Нудное ожидание. Пощечина князя мира сего: ведь те же поезда (только в противоположном направлении) сразу вот бегут, а твоего – всегда дожидайся! Случайность… Пристрастие… Верный объективному методу, я в студенческие годы целых два месяца записывал (тут же на перроне, у полустанка) в особую книжечку результаты наблюдения: ежедневно 6 отметок на 51 (9 воскресений), всего – 306. Почтенная цифра, известны исторические открытия, сделанные на основании более куцей статистики. Моей задачей было выяснить соотношение благоприятного факта к общему числу фактов. Так, если за время ожидания вагона в сторону АВ я успевал пропустить два поезда в обратном направлении, то писал пропорцию – 1:3 (то есть, на три явления только одно за меня). Предложил друзьям проверить опыт. Жан Дут установил для себя – 2:3; Спиноза 1:5; остальные получили мое соотношение (1:3), очевидно, самое распространенное. Тогда я формулировал общий закон: каждый человек имеет свой коэффициент попутности или удачи (его легко найти и вписать в паспорт, как характерную черту); мой коэффициент, самый банальный, равен 1:3; коэффициент удачи иногда колеблется, меняясь в разные периоды жизни; кроме того, в главном своем ответственном деле человек может иметь особый (второй) коэффициент, сильнее (или слабее) общего, будничного; среднюю же (этих двух) неразумно искать. Из всех царствующих ныне обманов величайший – теория вероятности (поскольку она связывается с определенным существом). Мотыльку, чья жизнь одна ночь, плевать на среднюю бесконечности; осмысленно ли искать, как его личный опыт растворяется в цифрах предполагаемой вечности, собственный хвостик приставлять к туше безграничности, по одному коготку или зубу, учено восстанавливать образ ледникового великана. Не закономерность и общие шансы важны для того, кто попал в котел с расплавленным чугуном и выскочил оттуда цел или, поскользнувшись на апельсиновой корке, сломал позвонок. Замечательно, какое гипнотическое влияние имеет теория вероятности на людей, в остальном математику не жалующих. Как всякая иная доктрина, она похожа на вдохновенного выскочку, конокрада, карьериста, которому рвачество до поры до времени удается; постепенно наглея, теряя чувство меры, он пытается уже овладеть решительно всем, распорядиться по-своему; а когда, наконец, разоблаченного хама схватила великолепная чернь и повела линчевать, он, окровавленный, гадкий, в исподнем белье (выволокли из кровати), ослепленный, вопит на все четыре стороны, кается: «Разве я что, разве я не понимаю! Всем надо жить!