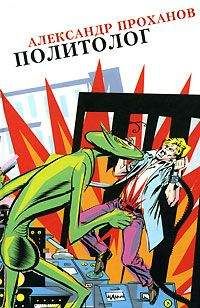– Они нас тоже убьют, – произнес осетин, когда они спускались на первый этаж. – Или бежать сейчас, или они нас кончат.
То же самое они проделали со вторым убитым, маленьким, коротконогим толстячком, у которого из-под рубахи выглядывал волосатый живот с пупком, а на расстегнутой груди висела нетолстая золотая цепь. Внесли на второй этаж. Стрижайло заметил, что люди в отдалении наблюдают за ним, указывают руками.
Второй мертвец упал вслед за первым, издав похожий, гуттаперчевый звук. Теперь они лежали у стены, один на другом, в нелепых позах. Стрижайло, вместо страха и отвращения, испытал недоумение – еще два дня назад он был в своей великолепной квартире, наливал себе в толстый стакан золотистый виски, ставил в проигрыватель диск с любимым Скарлатти. Фортепьяно в сочетании с легким опьянением вызывало световые галлюцинации – бег солнца по воде. А теперь он – член похоронной команды, и у стоящего рядом с ним осетина на белом пиджаке пятно брусничного цвета.
– Надо прыгать. Не высоко. На мужиков приземлимся нормально. Иначе кончат обоих, – произнес осетин, когда они спускались по лестнице и конвоир приотстал.
Они перенесли еще троих, вываливая их в окно, как кули. Люди снаружи ждали их появления. Кто-то смотрел в бинокль, – Стрижайло заметил две колючие белые вспышки.
Когда, уставшие, они подымали наверх последнего мертвеца, лысого, сначала контуженного, а потом добитого боевиками, осетин сказал:
– Ты как хочешь, я буду прыгать. Может, и не убьют. А здесь и так замочат.
Стрижайло подумал, что напарник прав. Второй этаж был весьма высок, но падение могла смягчить гора мертвецов. А там, виляя, уклоняясь от выстрелов, можно кинуться за угол, взобраться на насыпь, укрыться среди солдат, которые станут стрелять, прикрывая беглецов. Но что-то мешало решиться. Тот огромный, наполненный детьми и женщинами зал, от которого исходила таинственная гравитация боли. Он не мог ее одолеть, был ею затянут, – уже тогда, когда торопился по вечерней Москве на поезд, полный предчувствий. Ехал в вагоне среди лесов и равнин, приближаясь к загадочной зоне. Катил на такси, вовлекаемый в незримый поток, рассматривая южные домики. Бежал по двору, сметаемый стрельбой и криками. Всасывался в зал, мешаясь с безумной толпой. Эта гравитация боли не пускала его, принуждала остаться. Он не ответил осетину.
Они поднялись на второй этаж. Под одобрительными взорами знаменитых ученых затащили на подоконник край двери, где торчали ноги в заостренных туфлях и сиреневых нелепых носках. Конвоир отвлекся, – прислонил к стене автомат, что-то доставал из кармана единственной рукой. Дверь наклонилась, сбрасывая вниз рыхлое тело. И следом на подоконник вскочил осетин, мелькнули обтянутые белыми штанами ягодицы, и он провалился вниз. Было слышно, как что-то хлюпнуло. Не подходя близко, Стрижайло видел, как бегущий появился на пустом дворе, пересекал его прытким бегом. Однорукий схватил автомат, оттолкнул Стрижайло, стал бить с руки вслед беглецу, подымая вокруг солнечные фонтанчики пыли. Промахивался. Белый костюм мелькнул на зеленой насыпи и исчез.
Несколько выстрелов прозвучало издалека, пули проверещали высоко над крышей.
– Бежать хотел, крыса! – Охранник приставил горячий ствол автомата к горлу Стрижайло. Рваные губы его тряслись, шрам наполнился свекольно-фиолетовым цветом. – С пулей в башке побежишь!
– Оставь его, – раздался голос в дверях. Там стоял Снайпер, в перчатках, спокойный, ироничный. – Один сбежал, хорошо. Пусть федералам расскажет, сколько у нас их баб и щенков. А то уже врать начинают. Говорят по телевизору – сто тридцать шесть заложников. А тысячу не хотите, собаки?
Однорукий убрал автомат. Матерясь, отвел Стрижайло в зал, пихнул в скопление заложников.
Он снова сидел в толпе, среди непрерывного шевеления, плачей и возгласов, окруженный множеством голов, на которые лилось одуряющее, жгучее солнце. Было ощущение, что он оказался среди библейского племени, которое изгнали с насиженных мест, ввергли в пустыню, где оно изнемогает от жажды и пекла. Опустилось, обессиленное, на бархан, в ожидании мучительной смерти. Еще возникало ощущение перрона, во время войны и нашествия, где множество беженцев, обездоленных детей и женщин, ждут эшелон, не веря, что он придет, обреченно всматриваясь в накаленную до блеска колею.
Боевики менялись у амбразур, поправляли непрочные баррикады. Менялся и тот, кто контролировал все соединенные проводами заряды, держал стопу на педали взрывателя. Лысого, с бугристой головой и толстым затылком, сменил щуплый, почти юнец, с бегающим взглядом и рыжеватыми усиками.
Заложники страдали от жажды, от невозможности пойти в туалет. Женщины упрашивали конвоиров позволить им встать и выйти, показывали на плачущих детей. Их грубо обрывали, грозили автоматом, некоторых, пытавшихся встать, толкали на место ногой. Наконец, Снайпер, выглядевший главным начальником, распорядился отводить заложников небольшими группами в глухую, без окон, раздевалку, где им позволялось под присмотром конвоиров совершать мучительное действо. Когда туда, наконец, был отведен Стрижайло, все уже было залито мочой, покрыто испражнениями. Было невозможно дышать. Женщины, с которыми его отвели в раздевалку, не глядя на Стрижайло, приседали, громко журчали и булькали. Возвращались в зал, оставляя на полу мокрые следы.
В груде мобильников, на которых потоптался конвоир, время от времени начинал звонить уцелевший телефон. К нему тотчас подбегал террорист, давил башмаком, добивал подранка. Гасил голубоватое зеркальце, огоньки светящихся кнопок. Стрижайло показалось, что он слышит свой телефон, – несколько фраз сентиментальной неаполитанской мелодии. Кто-то разыскивал его в мироздании. Конвоир, в пятнистых брюках, в рубахе с мокрыми подмышками, подошел и ударом каблука оборвал этот неопознанный зов.
Ближе к вечеру, когда солнце исчезло и небо закрыла туча, на дворе перед спортивным залом загудел мегафон. Лающие, рокочущие звуки катились в душном воздухе, проникали в зал, создавая неразборчивое эхо. Это было неожиданно. Было свидетельством того, что снаружи о них знают и думают, ищут с ними связь, желают помочь.
Стрижайло в металлическом рокоте различал отдельные фразы:
– Доставить гуманитарную помощь… Детей и женщин… Питьевую воду и продовольствие… Хорошо известный доктор Рошаль…
В зал пришел Снайпер, держа возле уха мобильник. Не высовываясь, не подходя к окну, выглядывал во двор, слушал вибрирующие звуки.
– Какого хера ты прислал матюгальник? – услышал Стрижайло. – Я тебе сказал, никаких переговоров с педерастами. На хер мне этот жид из Москвы? Давай Дзасохова и Зязикова. Они что, перебздели? Предупреждаю, здесь будет гора трупов! – отключил телефон. Смотрел на заложников блуждающими, незлыми глазами, словно любовался доставшимся ему богатством.
Мегафон умолк. Непрерывное голошение в зале не позволяло слышать звуки снаружи. Лишь иногда гудел автомобильный двигатель, или слышался стук проходящего по насыпи поезда, или звенел пролетавший в стороне самолет.
Он увидел, как террорист извлек из кармана штанов легкий, из зеленого шелка, платок. Расстелил на свободном пространстве, под металлическим тросиком с висящей бомбой. Положил автомат. Опустился на колени и стал совершать намаз – застывал, заслоняя ладонями лицо. Стремительно падал вниз, касаясь платка лбом. Замирал в благоговейном поклоне. Вновь распрямлялся, закрыв глаза. Что-то беззвучно шептал, заслоняя лицо ладонями. В толпе молились заложницы. Снимали с груди ладанки и серебряные крестики. Целовали, воздевая мокрые от слез глаза. Возносили молитвы, принуждая молиться детей. Стрижайло казалось, что на небесах существуют два разных бога. Один в чалме, в бархатном зеленом халате, величественный, как Верховный муфтий. Другой – в золоченой митре, белобородый, в сияющей ризе, как патриарх. К обоим возносятся молитвы. Боги выслушивают их, степенно обдумывают. Обращаются один к другому. О чем-то благожелательно переговариваются. Космос поделен между божествами, и каждый управляет своим участком, – дарит избавление, обрушивает гнев. Ведет переговоры с соседним богом, достигая компромисса, стараясь не допускать между собою конфликта.
Изнывая от жажды, обессилев от гнетущих переживаний, Стрижайло осматривал сидящих рядом людей. Молодой мужчина с синеватой щетиной тоскливо водил глазами, прижимал к себе двух детей, мальчика и девочку. Обнимая их худенькие плечи, чувствуя свою вину и беспомощность, а те доверчиво и страстно жались к отцу. Прямая в спине, худая женщина, по виду учительница, собрала вокруг себя старшеклассниц и что-то им тихо нашептывала. Девушки сбросили от жары блузки и платья, остались в трусах и лифчиках, были похожи на пляжных красоток, и одна из них слегка улыбалась. Крупная, пышная женщина с заплаканным лицом обнажила смуглую грудь и кормила младенца, придерживая двумя пальцами смуглый сосок.