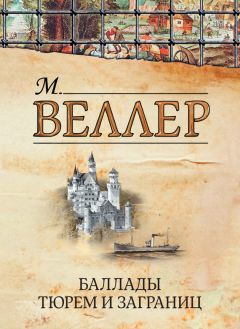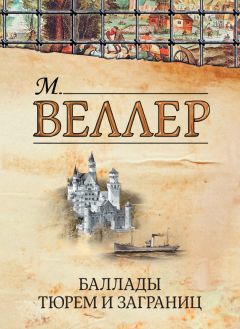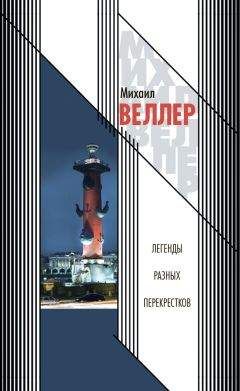Ознакомительная версия.
Все это было уже не веселое мошенничество, не красивое жульничество. Это была не официальная, но почти законная работа. По-своему тяжелая, громоздкая, нервная.
И Лазарь уже не был легок и весел. Он был богат, устал и скучен. Материально – в рамках вообще дозволенного в Союзе – он мог позволить себе все. Морально – он был никем. И в глазах его проблескивала черная меланхолия.
Надо полагать, сейчас бы он вполне преуспевал. Крутые ребята тех времен прошли жестокую школу, выжили в неслабых условиях, и доказали свою выживаемость. Но он давно и навсегда исчез с питерских горизонтов.
Эпилог…Выслушивая многочисленные пожелания написать «Легенды Невского проспекта» новой эпохи, я долго пытался понять, почему сейчас это так неинтересно. Сколько кремневых характеров! сколько умопомрачительных коллизий! какое богатство уголовной хроники и разнообразнейших происшествий!
И очень просто.
Картина имеет передний план, и имеет фон. Фон советской эпохи был сер, глух и ровен, как асфальт. Незаурядная личность и странная ситуация на этом фоне играли, захватывали, светились ярко и развлекали воображение. Каждая история – это был взлом фона, эпатаж действительности, протест, контраст; это была комедия издевки личности над системой и трагедия обреченности этой личности пред всемогуществом системы.
Суть настоящей истории – в победе мышки над кошкой. В смехе мышки над цепным псом закона и государства.
Что же ныне? Фон играет радугой и искрится бенгальским огнем. Возможно абсолютно все, и газеты наперебой гоняются за сенсациями. Любая, самая цветастая, история теряется на таком фоне. Сейчас контрастом будет уже ровная и спокойная история о счастливой любви; или о человеке, который предпочел честный труд искушению головокружительной махинации; или о разбогатевшем жулике, который вспомнил о совести и раздал все деньги бедным.
Мы живем сегодня в простом и понятном мире, где безоговорочно правят открытая сила, жадность и жульничество. Афера и кража стали нормой жизни – от министра и прокурора страны. Бандитизм сделался почти официальной работой, и любые преступления, известные всем, проходят безнаказанно.
Никто больше не вспоминает о морали, честности и долге. Все признали, что быть проституткой лучше, чем ткачихой. Слово «продажность» исчезло из словаря, ибо само собой подразумевается, что каждый должен продаваться за сколько сумеет.
Преступник и представитель государства соединились в одном лице. Противостояние личности и закона исчезло. Личность обнялась с законом и пошла косить капусту. Мошенник рискует только тем, что его пристрелит другой мошенник.
Поэтому сегодня плохо с юмором. К любому происшествию можно приставить вопрос-ответ: «Да, это так, ну и что такого? Еще и не то делают. Это нормально, так все и устроено».
Вчерашние мышки стали кошками и жрут и крадут все, что могут. А сегодняшние мышки – мышки по жизни, а не официальному положению, и супротив кошек не могут ничего, даже не пытаются, на то они и мышки. Их робкие дерги вызывают жалость, а не смех.
Сегодня Давид не может победить Голиафа, потому что вакансии Голиафов открыты, и Давиды сами становятся Голиафами и дубасят всех по головам. Ситуация такова, что каждый без особого труда может занять то место, которого он стоит. Отсутствует напряжение, разрыв, между тем, что люди себе должны представлять – и тем, что есть на самом деле. А этот разрыв, это напряжение и есть почва и основа юмора.
Юмор – это нарушение привычного соотношения между должным и имеющимся. Если нет должного – нет и соотношения, нечего и нарушать. Убийство, афера, адюльтер, гомосексуализм, беспорядок – не имеют сегодня на себе никакой оценки, а лишь констатируются как данность.
В этом – главная причина неинтересности сегодняшней литературы. Любая история, рассказанная писателем, сегодня менее интересна, чем сливки газетной хроники. В жизни все есть и все дозволено, и крутейший материал обрушивается водопадом.
Никакая фантазия не в силах превзойти дикий идиотизм того, что мы наблюдаем нередко в жизни и о чем сегодня открыто говорит журналистика. Поэтому писать о сегодняшнем дне куда менее интересно, чем жить в сегодняшнем дне.
Писание же историй советской эпохи – это создание виртуальной реальности, под неожиданным углом отражающее виртуальную реальность самой этой эпохи.
Искусство становится искусством тогда, когда может противопоставить действительности какое-то свое отношение, какую-то свою оценку, и через это показать читателю нечто, чего он раньше не видел, не задумывался, не понимал. Сегодня газеты и ТВ вываливают всю фактологию жизни, а что касается отношения, то все давно увидели: кто кого может, тот того и гложет. Поэтому сегодня плохо с искусством. Нет никакой твердой почвы, от которой оно может отталкиваться; искусству сегодня нечего противопоставить сегодняшней жизни.
…История Лазаря, скажем, была бы сегодня заурядной историей становления «нового русского». Это ново? интересно? смешно? Всех уже тошнит от жулья. От каждодневного абсурда.
Поэтому подождем немножко, пока все само устоится, ага.
О старый Ленинград, коммуналки Лиговки и Марата! Только врачи и милиция знают изнанку большого города. Какие беспощадные войны, какие античные трагедии. Не было на них бытописателя, запрещена была статистика, и тонут в паутине отошедших времен потрясающие душу и разум сюжеты: простые житейские истории.
Не любил старичок шума. Тихонький и ветхий. Раз в неделю ходил в баньку, раз в месяц стоял очередь за пенсией. Смотрел телевизор «Рекорд» и для подработки немножко чинил старую обувь.
И жил в той же квартире, пропахшей стирками и кастрюлями, фарцовщик. Как полагается фарцовщику, молодой, наглый и жизнерадостный. Утром он спал, днем фарцевал, а после закрытия ресторанов гулял ночь дома с друзьями и девочками. Они праздновали свое веселье и занимались сексом, и даже групповым.
С этим развратом старичок, ветеран всех битв за светлое будущее, как-то мирился. Хотя чужое бесстыжее наслаждение способствует неврастении. По морали он был против, но по жизни мирился. А что сделаешь. Фарцовщик здоровый и нахальный.
А вот что музыка до утра ревела и танцы топотали, это старичка сильно доставало. Сон у него был некрепкий, старческий; да хоть бы и крепкий, рев хорошей аппаратуры медведя из берлоги поднимет.
Будь наш старичок медведь, он бы им, конечно, давно скальпы снял. Покрошил ребрышки. Но сила была их, и поэтому он только вежливо просил. Мол, после двадцати трех часов по постановлению Горсовета прошу соблюдать тишину. Обязаны выполнять, люди спать должны.
Сначала он активно протестовал, требовательно, но ему щелкали небрежно по шее, и он притих. Пробовал и милицию вызывать, но с милицией они договаривались дружески, совали в лапу, подносили стакан, подвигали обжимать девок, и та миролюбиво отбывала. По отбытии старичка слегка били. Не били, конечно, а так, трепали. Для назидательности. Чтоб больше не выступал.
Прочие соседи вмешиваться боялись. Порежут еще эти бандюги. А так выпить угостят. Старичок же не пил. Он был старого закала, очень порядочный. И несгибаемый. И жил, главное, через стенку, весь звуковой удар на себя принимал: каблуки гремят, бляди визжат, диваны трещат – и музыка орет. Спокойной ночи.
Постучать в стенку тоже нельзя – в лоб получишь. Так он избрал такой способ сопротивления. Он садился в коридоре на табуретку, под лампочку, между кухней и туалетом. И когда кто-нибудь туда шел, старичок делал замечание:
– Прошу вас перестать шуметь, пожалуйста. Иначе я буду вынужден принять меры. Я вас предупреждаю.
Он с изумительной настойчивостью это повторял, и к нему постепенно привыкли, как к говорящему попугаю. Пьяные не обращали внимания, а потрезвей иногда откликались: «Добрый вечер, дедуля; конечно».
Уснуть это старичку, разумеется, не помогало, но помогало уважать себя. Потому что не смирился, не дал себя запугать, но в культурной и безопасной форме продолжал противостоять безобразию и бороться за свои права. Мирный Китай делал агрессивной Америке четыреста сорок седьмое серьезное предупреждение, и сосуществование различных систем продолжалось своим чередом.
Вот он дежурит на своем тычке, а один гость в ответ:
– Да пошел ты на …, старый хрен. Не свисти тут.
Старичок побелел и повторяет:
– А я вам говорю – чтоб прекратили шум!
А гость пьяной губой шлепает:
– Ссал я на тебя. – И, глумливо не закрывая дверь, журчит мерзкой струей в унитаз.
Старичок прямо затрясся, зазаикался:
– Хам. Подонок. Мерзавец. Стрелять таких.
– Чего-чего-о? – И пьяный его пятерней в лицо, пристукнул головой о стенку.
Старичок заплакал от бессильного унижения.
– Последний раз, – плачет, – предупреждаю! – И кулачок сжал.
Ознакомительная версия.