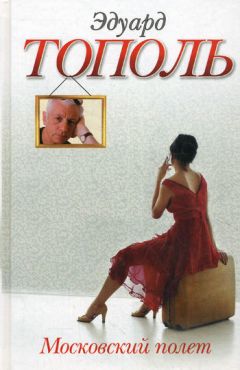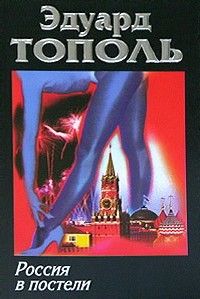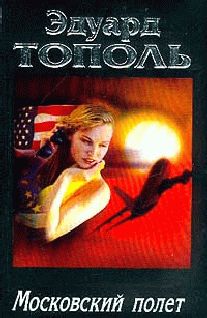Ознакомительная версия.
– О, Вадим, ваш английский вполне хорош! Если бы я могла так говорить по-русски! Между прочим, познакомьтесь, это мой муж, Грегори Огилви, мы преподаем в «Вильям энд Мэри колледж», Вирджиния. А чем вы зарабатываете на жизнь? Вы пишете в газеты?
– А почему вы не эмигрировали в Израиль?
– А сколько вам лет?
– Вы родились в Баку? Где это – Баку? О, это же там, где национальный конфликт!..
– Вадим, еще пива?
– Как называется его книга? «Гэбэшные псы»? Вадим, а вы уверены, что вас пустят в Россию после такой книги?
– Они же дали ему визу!
– Ну и что? Они могут устроить ему провокацию, как Нику Данилоффу. Вы же знаете КГБ! Я думаю, мы должны о нем позаботиться. Чтобы он там не оставался один. Мистер Вудстон! Барри! Это верно, что у нас назначена пресс-конференция с генералом КГБ?
– Абсолютно! Завтра, в 12.00. И еще, друзья! У нас будет встреча с лидерами русского национально-религиозного возрождения! Но это тайно от КГБ, прошу иметь в виду!
– О, как интересно! Мистер Плоткин, вы когда-нибудь были в КГБ?
– Нет, но собираюсь побывать. Я хочу задать им пару вопросов.
– О чем?
– Одиннадцать лет назад они арестовали мой фильм. Я хочу узнать, есть ли он у них.
– Как это – «арестовали фильм?» Арестовать можно человека, не фильм.
– В СССР можно арестовать что угодно…
– Еще одно объявление, друзья! – крикнул Барри Вудстон. – Внимание! В Москве, в нашей гостинице, я заказал аренду сейфа. Если кто-то имеет при себе драгоценности или ювелирные изделия…
Через час я начал различать, кто из них кто. Конечно, легче всего было запомнить Роберта Макгроу из Колорадо – это был двухметровый голубоглазый и громкоголосый мужчина в ковбойской шляпе, в ковбойских сапогах и с широким ковбойским поясом на белых джинсах. Его пояс и сапоги были декорированы серебряными заклепками, а белая рубашка – цветными вышитыми узорами. И хотя ему было куда больше шестидесяти, он пил, мне кажется, все подряд – виски и пиво, джин и пиво, бренди и пиво… При этом его крупное загорелое лицо совершенно не менялось от количества алкоголя. Правда, по мере нагружения дринками он все ниже расстегивал кнопки на своей рубахе, обнажая медно-загорелую грудь, покрытую седым пушком…
Вровень с ним пила только Дайана Тростер из «Хантсвилл войс», Алабама. Но она пила только водку со льдом, ничего, кроме водки. И в отличие от Роберта после каждого дринка на ее тонком лице выступали белые пятна, а после пятого или шестого стакана ее лицо побледнело целиком и на длинном носике появились росинки пота. Она аккуратно промокнула их салфеткой и заказала себе новый дринк.
Сэм Лозински – стройный сорокалетний, в темном блейзере и строгом галстуке, полковник и редактор «Милитэри ньюс» Шестого американского флота, Норман Берн – невысокий, но крепко сбитый, с живыми бархатными глазами адвокат-защитник из Флориды и молчаливый тяжеловес Джон О’Хаген – мэр города Мэдисон из штата Огайо, пили поровну – примерно один дринк в пятнадцать минут. С такой же скоростью поглощала дринки наша молодежь – шестеро 25-летних журналистов из Вашингтона, Лос-Анджелеса и Торонто, которые еще в нью-йоркском аэропорту объединились вокруг очень симпатичной Моники Брадшоу, полуфранцуженки-полушотландки с карими глазами и хорошенькой фигуркой. На плечиках своей кегельной фигурки Моника постоянно носила целую тонну фотоаппаратуры – она была фотокорреспондентом какого-то питтсбургского журнала.
Не больше двух дринков за все время нашей стоянки в Вене выпили администратор нашей делегации Барри Вудстон и совсем молоденький, в джинсах и кроссовках, черный журналист из Нью-Йорка Гораций Сэмсон, который трижды спросил меня, почему я эмигрировал в США, а не в Израиль.
При этом количество вопросов было обратно пропорционально количеству выпитых дринков. То есть больше всех меня допрашивали те, кто пил только минеральную воду, – Ариэл Вийски, профессорская пара Огилви из «Вильям энд Мэри колледж», четверо японцев и похожий на австрийского медвежонка вундеркинд Дэнис Лорм, который, кажется, знал о России абсолютно все – размеры безработицы, алкоголизма, численность КГБ, цифры национального дохода, количество политических заключенных и так далее, вплоть до процентов татарской, шведской и еврейской крови у Владимира Ленина и точной формы пигментного пятна на голове Горбачева.
– По данным ЦРУ, военный заговор против Горбачева невозможен, но консервативное крыло партийной номенклатуры с помощью саботажа в снабжении населения продуктами создает в стране ситуацию, на гребне которой они могут в будущем опрокинуть перестройку…
Вот так, словно по писаному, Дэнис говорил не замолкая и при этом поминутно поворачивался ко мне за подтверждением: «Верно? Вы согласны? Так?..» Даже когда нам объявили посадку, он, наспех досматривая кипу немецких, французских и английских газет, продолжал без остановки:
– Я согласен с вами на сто процентов! Горбачев начал перестройку, чтобы немножко починить старую систему. Абсолютно! Но когда он открыл капот советской экономики, то увидел, что там все сгнило и по всему телу системы – метастазы рака. Однако он сам такой же продукт системы, как Хрущев или Брежнев, и боится оторваться от КГБ и партийной бюрократии…
Под это журчание в окружении всей нашей группы я пошел на посадку в самолет, совершенно забыв, что это последняя остановка перед Москвой. Перед Москвой! Где-то сбоку, поодаль, промелькнула вывеска «Lost and Found»[7], и я мимоходом вспомнил, что десять лет назад это была первая в моей жизни вывеска, которую я самостоятельно прочел по-английски, усмотрев в ней какой-то скрытый шифр всей своей жизни. Но уже в следующий миг поток нашей делегации увлек меня дальше. И я – так же мельком, с недоумением – подумал, что этот аэровокзал как-то ужался за десять лет, стал меньше. Но предаться воспоминаниям я уже не успел – мы входили в наш «боинг».
Всего два часа назад мы сидели в нем, разбросанные по всему салону, и выходили в Вене совершенно незнакомыми, разрозненными людьми. А теперь, неся в руках свои недопитые дринки, мы вошли в самолет одной шумной компанией, на ходу обсуждая европейские события, политику Белого дома, роспуск венгерской компартии, рост цен на бензин и еще черт-те что, вплоть до вкуса немецкого пива. И я был в эпицентре этого клубка реплик, монологов, шуток, касаний плечом и паров алкоголя. Не прерывая разговоров, мы расселись в салоне одним плотным массивом, почти бесцеремонно меняясь местами с пассажирами не из нашей группы, и только после взлета я вдруг осознал, что – елки-палки! – я лечу в Москву, в Москву!
Но страха не было.
Я даже с удивлением поискал его внутри себя, потом глянул в иллюминатор – неужто мы уже летим? И тут же встретил вопросительный взгляд флоридского Нормана Берна.
– Вадим, не беспокойся! Если что – я буду твоим адвокатом! – сказал он. – Чиирс!
Мы чокнулись. И в тот же миг о наши стаканы ударил стакан полковника Сэма Лозински.
– Имей в виду, Вадим, – сказал он. – Шестой американский флот на твоей стороне!
– Спасибо.
– Вэлл, Вадим… – неторопливо произнес с заднего сиденья двухсоткилограммовый Джон О’Хаген, из штата Огайо. Кажется, он впервые открыл рот за все время нашего полета. Но слова его прозвучали весомо: – Если что-то случится с тобой в Москве, мы просто не дадим им зерно. Вот и все.
Они все говорили «Вадим» – с ударением на первом слоге. Но мне это уже не мешало. Ощущение того, что за моей спиной действительно стоят Шестой американский флот, фермеры Огайо и две дюжины американских, японских и европейских газет (плюс, конечно, эффект нескольких дринков), подняло мой дух почти на ту же высоту, на какой он был десять лет назад, когда я в этом венском аэропорту выносил из советского самолета еврейского младенца.
В начале нашего века супергигантская колония саранчи неожиданно перелетела из цветущей Абиссинии в пустыню Джибути, где вся тут же издохла от жары и голода. Французские ученые посчитали тогда, что масса саранчи превышает даже запасы африканских месторождений меди! И никто не мог понять, что же подняло такую тучу саранчи и понесло ее через море не на новые луга и зелень, а прямо на погибель. А русский ученый Вернадский, случайно наткнувшись в газетах на это сообщение, сформулировал наличие особого вида энергии – биохимической энергии живого вещества. Когда эта биохимическая энергия кончается, например у леммингов, они собираются в стада, идут в океан, не могут остановиться и тонут. И муравьи, исчерпав запасы этой энергии, вдруг вылезают из своего муравейника и движутся колонной по амазонским джунглям, пока не сдохнут…
Но это я уже цитирую другого ученого, Льва Гумилева, сына русского поэта Николая Гумилева, расстрелянного большевиками в 1921 году. Как потомок «врага народа», Лев Гумилев еще в юности попал в сталинские лагеря. И вот в 1939 году в общей камере ленинградской тюрьмы «Кресты», сидя на нарах, этот Гумилев размышлял об истории человечества. Почему Александр Македонский пошел в Индию, которая была ему абсолютно не нужна? Что его толкнуло на эту бессмысленную войну, после которой он тут же умер от ран и переутомления? Почему Ньютон отказался от семьи, от потомства, от любимой женщины и даже с гордостью написал: «Я всю жизнь работал ради науки и не пролил ни капли семени!»? Почему Наполеон повел солдат на Россию, которая была ему нужна так же, как Индия Македонскому?
Ознакомительная версия.