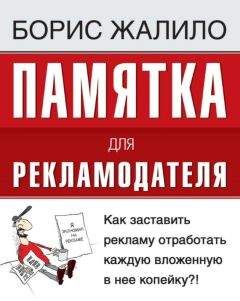Ознакомительная версия.
Нет, не хотелось вспоминать ту клетушку, в которую она завтра вселится, где придется доживать. Год, два, пять…
– Ла-адно, – снова вздохом протянула Ирина Викторовна, успокаивая себя, и услышала в этом своем «ла-адно» что-то куриное: курицы так же успокаивали петуха, когда тот вскрикивал, возмущенный непорядком. Он вскрикивал, а они откликались тихо и мягко: «Ла-адно. Ла-адно тебе». Да и она сама подобным образом успокаивала мужа. А теперь вот сама себя.
Принесла нож и доску, тарелки, стала разрезать брюшки. Забиралась рукой в нутро, вытаскивала еще сохраняющие тепло жизни потроха. Больно становилось, когда встречала гирляндочки яиц: оранжевые овальчики висят на стебельках, будто виноградины, или – больше на помидорки похоже… Да, рано пришлось рубить – еще бы с месяц неслись хорошо.
Обмыла выпотрошенные тушки и сложила в ведро в сенях. Хорошее ведро, эмалированное, но откололся на дне кусочек эмали размером с копейку, и через каких-нибудь два года ведро прохудилось. Ирина Викторовна залепляла дыру то замазкой, то этой жвачкой из магазина, но все равно воду в ведре держать опасно: отойдет заплатка, и вытекут двенадцать литров, а это беда – промокшие плахи пола.
Вообще ненадежна эмалированная посуда – обязательно происходит такой вот скол, и образовывается дырочка. Будто специально так делают, чтоб не навечно было и раз в несколько лет шел человек и покупал новое ведро, новый бак, кастрюли. Ведь есть же нержавеющее железо – вон алюминиевые кастрюли, ведра лет сорок как служат; дочка лет десять назад кастрюлю подарила из блестящего легкого металла – тоже, кажется, долговечная. А с эмалью… Клюешь на ее красоту, чистоту, а потом горюешь…
Сложив тушки, накрыла перевернутой крышкой, поставила сверху старый чугунок, чтобы крыса или кошка какая приблудная не забралась. Теперь надо разобраться с потрохами. Жир, сердца, легкое, желудки, печенку, вырезав из нее зеленоватую пуговку желчи, – все отдельно… Разрезала и вывернула тугие мешочки желудков. Очистила, промыла.
Так, печенку потушит, а остальное расфасует по мешочкам.
– Руся-а, – голос, – Руся, дома ты, нет?
Ирина Викторовна дернулась от неожиданности – второй день не слышала человеческой речи, не выходила за калитку.
– Дома-дома, проходите! – И сама направилась навстречу медленно, шумно поднимающейся по ступеням крыльца гостье; почему-то ей показалось, что пришла не оставшаяся в деревне ее сверстница, а одна из живших у них женщин-блокадниц, которые и называли ее, Ирину, – Ирусей, Русей… Почти семьдесят лет назад они жили здесь, а вот сместилось в голове – и исчезли на мгновение эти семь десятилетий…
Это была Зинаида. Когда-то передовая строительница социализма, активистка, прорабатывающая бездельников и пьяниц, горячо выступающая на собраниях… Теперь ей восьмой десяток, силы почти кончились, идеалы несколько раз менялись, но все же она продолжала торопливо ходить по улицам, навещала больных, передавала из избы в избу новости, которые в последние годы становились всё грустнее и горше. И сейчас Ирина Викторовна испуганно смотрела на Зинаиду, ожидая плохой вести.
– Чего ты? – удивленно нахмурилась Зинаида, поймав этот взгляд.
– А ты?.. Чё случилось?
– Да ничё… Ничё не случилось… попроведать зашла вот.
– А-а. – Ирина Викторовна облегченно выдохнула. – А я уж… Ну, заходи. Я тут с курицами покончила. Отеребила. – Кивнула на горку перьев на полу веранды.
– Я тоже, – ответила Зинаида. – У меня три всего оставалося. У одной – полно брюхо яичек. И капашны и готовы почти.
– И у моих были… Жалко.
– Все жалко, Руся, все жалко. Кажду щепочку.
Прошли на кухню. Зинаида скорей села, развязала платок.
– Ташкент у тебя. Протопила напоследок?
– Ну, кипяток-то надо. – Ирина Викторовна поставила на плитку кастрюлю, плеснула на дно постного масла. – Печенку готовлю. Будешь?
– Да я уж поела… Чаю буду, если дашь… Я вот чего пришла-то. – Голос Зинаиды стал серьезным и неуверенным. – Договорилися вечером в клубе собраться. Ты как?
– И чё там делать?
– Галина Логинова пирог с харюсом стряпат… Посидим.
Ирина Викторовна понимала, что правильно решили собраться, надо пойти, а в сердце мгновенно взбухла досада, непонятная обида.
– Пирог сидеть жевать…
– Попрощаться-то надо, Русь. Нехорошо так, – по-прежнему серьезно и неуверенно стала объяснять Зинаида. – Одни в город завтра, другие… в другие места. Уж не соберемся больше так. Разлетимся по свету. – И голос поплыл от слез. – Алексей Михалыч здесь нарочно остался, чтоб с нами…
– Да приду, приду! – перебила Ирина Викторовна. – Приду, конечно! Хлипать только не начинай, а то я тоже… Во сколько надо?
– Да как отемнет, так и начнем… Попрощаемся хоть…
Чай Зинаида ждать не стала – пошла. Наверняка еще кого-то уговаривать.
Конечно, нужно было посидеть с оставшимся десятком ровесников здесь, на родине, в том клубе, в котором танцевали еще молодыми полвека назад, пересмотрели тысячи фильмов, в котором в конце семидесятых узнали, что их Пылёво обречено и совхоз распускается… Много с чем клуб был связан – все общие праздники там отмечали, прощались с председателями и другими уважаемыми людьми, целовались и ругались, дрались, мирились…
И вот из клуба вывезли аппаратуру, какие-то важные вещи, но само здание, построенное в конце пятидесятых, пока стоит. Стоит крепко, как и избы вокруг, сельсовет, двухэтажная школа, склады, магазины… Так посмотришь, и ведь живое село, а что народа почти нет – ушли в тайгу по грибы, по бруснику. Самая пора сбора. К ночи вернутся, зашумят, хвалясь друг перед другом, потом свалят грузди, маслята, обабки, волняшки в большие кадки с водой, и по деревне разольется сытный грибной аромат, обещающий, что зимой люди не станут тужить-голодать.
Да, потрудиться сейчас, в последние перед снегом, перед морозами дни, и зима пройдет хорошо, спокойно. Будут шипеть в печах соком березовые поленья, будет вариться мясо выращенных летом свиней, телят, куриц; из подполья будут поднимать на тарелках соленые помидоры, огурчики, грибы, капусту, арбузы, черемшу; будут тереть со сметаной редьку. Затрещит разлетающаяся по кути рыбья чешуя, пахнёт из открытой банки горлодёр. Застучат, как камушки, ссыпаемые из мешка в железную чашку налепленные в ноябрьские вечера пельмени и вареники, а из чашки забулькают в крутой кипяток с лавровым листом и черными горошинками перца. Вырастет на столе горка желтоватой, с бархатистой шкуркой картошки. Достанет хозяйка из духовки противни со сдобами, калачами, шанежками с картошкой, творогом, брусникой, укроет чистым полотенцем. Нажарит пирогов, пермячей, расстегаев, икряников…
Ох, как хорошо, накормив животину, покидав снег на дворе, войти в теплую избу в густых клубах пара, потоптаться на половичке, покхэкать, а потом разболокаться, сполоснуть под умывальником руки, лицо, шею, чувствуя на губах солоноватость здорового пота; пройтись мокрыми ладонями по волосам. Сесть за стол, жабнуть стопку нехолодной сладковатой самогонки, а потом долго, неспешно есть, глядя в свободный от морозных узоров прогалок в окне на укрытые снежиной соседские избы, на столбики дыма из труб…
Пообедав печенкой с сухарями и выпив чаю, Ирина Викторовна хотела было, как обычно, скорее заняться делами, но удержала себя: «Куда уже торопиться? Посиди, подумай». – «Но надо собираться, еще поглядеть, что, может, нужное», – заспорила. И другая часть ее с готовностью включилась в спор: «Все нужное. Правильно Зинаида сказала: каждую щепочку жалко».
В избе было тихо – печка давно прогорела, радио, раньше постоянно бубнящее, увезено в город, – и эта тишина вдруг так стала давить, что Ирина Викторовна все-таки поднялась, вышла на крыльцо. Осмотрела с него видимый кусочек улицы. По-прежнему никого и никаких звуков. Тишина.
Месяц назад, когда окончательно уезжала бо́льшая часть жителей, здесь день и ночь стоял гам и треск. Одни что-то ломали, другие, наоборот, – сколачивали; бегали от двора к двору, передавали вещи, перекрикивались; визжали свиньи, рыдали забиваемые коровы и бычки… Будто беженцы, катили мужики и женщины тележки, медведки, тачки с добром к пристани, ругались из-за любой мелочи, нервно смеялись, орали. Выпивоха Женька Глухих дергал отцов баян, наугад нажимая на кнопки…
Ушел тот паром, и тише стало. Сначала еще кукарекали кое-где петушки, еще проходили по улице оставшиеся, пробегала ошалелая собака, а в последние два-три дня глухо совсем. И что уж действительно жутко – воробьи исчезли. Раньше отбою от них не было, теперь ни одного. Пусто.
Чтобы спастись от этой давящей, как гнет, пустоты, Ирина Викторовна направилась к стайке. Там Чернушка.
Открыла обитую старым одеялом дверь, нашла взглядом курицу. Та растерянно стояла и смотрела на хозяйку. Не побежала навстречу, как обычно, не бросилась прочь, как некоторые рыжие часа три назад, когда Ирина Викторовна хватала их по одной и уносила… Стояла и смотрела. Ждала.
Ознакомительная версия.