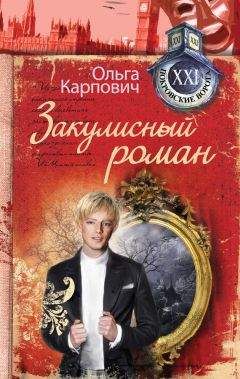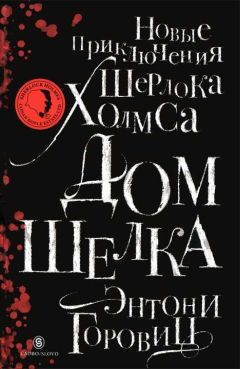– Слышал, Гошу из инста поперли, – продолжал я. – Какие-то деньги он у Светланы будто бы спер. Блин, и че я не знал, что у нее там деньги лежат? Я бы раньше Гошки подсуетился.
Вац не слушал мое гонево, он взобрался на батарею ногами и смотрел в залепленное снегом, подслеповатое окно, находившееся высоко над полом.
– Багринцев приехал, – сообщил он. – У них заседание кафедры в семь. Пойду поздороваюсь с Великим Мастером.
– Ага, – сказал я. – Давай!
Меня неудержимо клонило в сон, я привалился спиной к батарее и задремал. Пока не заснул крепко, я еще слышал шаги Вацлава, взбегавшего по лестнице, а потом все стихло, и у меня перед глазами замелькали разноцветные бабочки.
Очухался я через несколько часов. Мне было так херово, как никогда раньше. Не знаю, то ли барыга грязный порошок подсунул, то ли забрало меня как-то не так. В ушах шумело, левая лопатка как будто отнялась. Я встал на ноги и чуть не блеванул. Кое-как выбрался на улицу, глотнул воздуха.
Во дворе почему-то было до хрена народу, «Скорая» визжала своей сиреной, крутились красные и синие огни. Я застремался сначала, что это меня кто-то запалил под лестницей и вызвал бригаду. Но, слава богу, на меня никто не обращал внимания, я прокрался мимо и свалил в метель.
Не помню, как добрался до хаты одного кента, жившего неподалеку. И там уже меня расколбасило по полной – все как полагается: пена изо рта, судороги, отключка. Чуваки меня, конечно, на лестницу выкинули, чтоб самим не пропалиться, но хоть «Скорую» вызвали. И загремел я в больничку. Там меня кое-как откачали, а потом предки сунули кому-то денег – уж не знаю, что еще они продали, – и меня поместили в недавно открывшуюся платную реабилиташку.
Провалялся я там месяц. Сначала вмазаться хотелось так, что пипец. Потом, по мере того как меня чистили и накачивали успокоительными, немного отпустило, и такой депресняк прихватил, что хоть вешайся. Я смотрел в окно сквозь решетку и видел пустую улицу, угол магазина и помойку. И снег, бесконечный, серый, валившийся с неба, как слежавшийся пух из пробитого ножом одеяла.
Никто не навещал меня, кроме родителей. И так мне было хреново, одиноко, тоскливо, что и словами не передать. Я представлял себе, что мои однокурсники сейчас, наверно, репетируют «Дориана», Вац блистает на сцене, Багринцев растроганно мотает башкой. А обо мне все забыли, я заперт тут, как крыса. Я все провафлил, проторчал: свою жизнь, молодость, друзей, призвание. Если я сдохну тут, в этой мерзкой конуре, среди обосравшихся наркошей, никто и не вспомнит обо мне.
А однажды ко мне пришла Катя. На свиданки нас выпускали в местный «зимний сад» – так называлась проходная комнатенка, в которой стояли три жалких фикуса в горшках и вмазанные галоперидолом торчки вяло играли в нарды. Я притащился туда, ожидая, что опять увижу рыдающую маман, и вдруг ко мне со стула поднялась Кэт. Меня аж передернуло. Ее приход был для меня как весточка из того мира, что остался за решеткой. Катя была такая свежая, румяная с мороза, красивая. Она вообще-то тогда центровой герлой была, с внешним видом все в порядке. Русалка такая, хаер до поясницы и глазищи огромные, как блюдца.
И она была единственной, кто вспомнил обо мне, единственной.
– Ну как ты? – участливо спросила она. – Получше хоть немного?
Стыдно сказать, но я ткнулся рожей в ее руки и разрыдался, как первоклассница. А она гладила меня по голове и шептала:
– Шш-ш… Я с тобой. Все будет хорошо.
– Ну, что там у вас творится? – спросил я, когда успокоился. – Как спектакль? Полный аншлаг? Вац срывает овации?
– Ты знаешь, Владик, – сказала Катя, – Евгений Васильевич умер. Скоропостижно. Вроде бы ему стало плохо прямо на кафедре. Что-то с сердцем, не знаю… А Вацлав уехал. Никому ничего не сказал. Наверное, не захотел после смерти любимого Мастера оставаться на курсе…
– Ничего себе – весело у вас! – офигел я.
– Владик, почему с нами такое происходит? – задумчиво спросила она. – Ада чуть не в шестнадцать лет вышла замуж за какого-то бандита, который потом ее бросил с ребенком. Гоша попался на краже денег. Ты… угодил в больницу, – деликатно договорила Катя.
– Я… – Она замялась и продолжила: – Почему? Что с нами не так?
– Не знаю, – пожал плечами я. – Наверно, мы потерянное поколение. Дети девяностых… И только ты одна у нас как из прошлого века. Тургеневская женщина. Спасибо тебе, Кэт. Спасибо, что пришла. Ты не представляешь, как мне тут херово…
Она обняла меня, погладила рукой по щеке. И я поцеловал сначала ее пальцы, потом висок и, наконец, губы. Проходивший мимо санитар выставился на нас – еще бы, нечасто тут, в реабилиташечке, случались романтические сцены. А мы не обращали на него внимания, сидели, сцепившись руками, как дети, и целовались.
С тех пор пролетело уже столько лет, а я так и не знаю, почему она тогда пришла. Может, ей тоже было пусто и одиноко после того, как Вац свалил. Может, она считала, что мы, как пострадавшие от одного демона, должны держаться вместе – ну вроде анонимных алкоголиков. Или так по-женски хотела отомстить Вацу, думала, дурочка, он когда-нибудь узнает, и ему станет больно. А может, она просто по натуре человек такой, что ей надо обязательно о ком-то заботиться, кому-то служить. Сначала престарелой бабке, потом – Вацу, затем – мне за неимением лучших кандидатур. Я не знаю. Только, обнимая меня, она шептала:
– Ты так нужен мне, Владик. Не прогоняй меня, и я всегда буду с тобой, всю жизнь.
– Катя, – осторожно начал я, – ты понимаешь, у меня гепатит. Мне тут врачи об этом сказали. Не знаю, как я еще ВИЧ не умудрился подцепить. Ты понимаешь, что это значит? Вполне может оказаться, что детей мне лучше не иметь. Мне, конечно, колют аллоферон, но не факт, что до конца вылечат.
Она помолчала с минуту, потом тряхнула головой и вымолвила:
– Ну и пусть!
– Теперь ты сечешь фишку? – Я поднял голову и уставился на Ваца. Он двоился у меня в глазах, качался из стороны в сторону. – Она отдала мне всю жизнь, таскала по врачам, терпела, когда я напивался, чтобы снять тягу к гердозу. У нее детей из-за меня нет. Как я могу сейчас ее бросить? Но, долбаный свет, я не могу так больше. Она всегда права, понимаешь? И всегда хочет как лучше! Она меня душит, давит. Я актер, мне нужны впечатления, эмоции, мне нужно, чтобы было что играть. А она устраивает вой каждый раз, как я не приду ночевать домой. И мне каждый раз стыдно, так стыдно. Потому что она мученица, а я говно.
Закончив свою речь, я плеснул себе еще виски, облив руку и стол, и залпом проглотил. Вацлав спросил:
– И ты решил, что это лучшее проявление благодарности – провести остаток дней с женщиной, которую ты на дух не переносишь? Похерить свою жизнь, ее жизнь из каких-то сомнительных соображений общественной морали? Может, оставь ты ее, она давно бы нашла другого человека, с которым была бы счастлива? Может, и ты выбрался бы из этого порочного круга: пьянство-стыд-раскаяние-раздражение-пьянство. Вы уничтожаете друг друга, играете на нервах, на чувстве вины и долга. Нет, это тоже занятное развлечение, я не спорю, только не нужно в данном случае говорить о милосердии и благодарности.
– Блин, чувак, ты прав, ты, как всегда, прав! На хрен эту жизнь! – взревел я. – Кому я что должен? Только самому себе и – зрителю? Так?
– Это тебе решать, – тонко ухмыльнулся Вац.
Но мне было уже наплевать на все.
– Что ты там нюхал в машине? – спросил я. – Угостишь?
Он извлек откуда-то из-под пиджака портсигар и вложил его мне в руку. Я, шатаясь, проследовал с ним в туалет и занюхал там две «дороги». Елки, какой же это было кайф! Как будто меня всю жизнь держали на хлебе и воде и вдруг накормили пирожными. Меня так проперло, прям молодость вернулась. Да че я загнался-то, в конце концов? Все у меня будет чики-поки, и пошла Кэт на хрен со своими нравоучениями.
Че там потом дальше было, я смутно помню. Потому что меня так плющило, что пипец, да еще бухали все время. Затем еще в одно место поехали, потом снова куда-то. В одном из заведений играл джаз, а где-то грохотала попса из восьмидесятых. Какая-то телка присаживалась ко мне на колени и порывалась отсосать у меня прямо под столом. В какой-то момент мы с Вацем стояли на мосту, моросил дождь, внизу черной стеклянной поверхностью покачивалась Москва-река.
– Мое предназначение… – твердил я. – Ты знаешь, в чем оно – наше предназначение? Я хотел измениться, хотел быть трезвым и честным. Но не мог, только мучился сам и измучил неплохую, в общем, тетку.
– Ради бога, Влад, не меняйся, ты вполне хорош таким, какой есть, – смеялся Вац. – А единственное наше предназначение в том, чтобы прожить жизнь интересно и ярко. Подумай сам, мы умрем – и ничего не будет, кончится, погаснет мир, как будто задернули занавес. Даже если твое имя останется в веках, даже если дети будут вспоминать тебя с благоговением… Ты никогда этого не узнаешь, так не все ли равно? Для тебя просто не будет никакого будущего, так зачем искусственно обеднять настоящее?