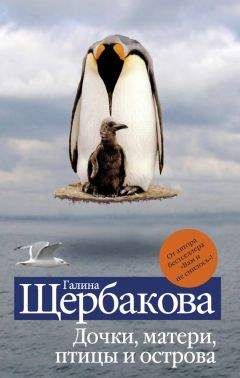Ознакомительная версия.
– Вы за птицей? – спросит Тоня тонко, будто ничего не имеется в виду.
– О! – скажет он. – Ваша на ногах!
– Ага! – ответит она. – Заходите. Вы мне мертвого, а я вам живую. Значит, с вас больше и причитается.
– Больше – это сколько? – спросит парень.
– Заходите, договоримся.
И так далее…
Тоня представляла их за столом, и как она подаст, и как положит, и нальет… Главное же не представлялось, потому что Тоню охватывал такой жар, что надо было идти к крану и холодной водой брызгать в лицо. Вода, правда, к лицу не приставала, потому что Тоня намазюкалась кремом, которому года три, не меньше, изжелтелся весь и на щеках лежал серыми комочками, но другого у Тони не было, она к таким делам относилась безразлично, она не верила, что косметикой лицо можно исправить. Глупости. Крашеные женщины – они и есть крашеные женщины. Еще сильнее видно, сколько лет на самом деле. И сегодня она намазалась, исключительно чтоб отбить запах кухни. У нее и пробные духи есть, и она их, конечно, пустит в дело. Но это уже в самом конце.
А курица рябая, между прочим, лежала, лежала связанная и собралась помирать. Запрокинула голову, открыла клюв, а глаз ее пошел затекать мутной серой пленкой. Тоня испугалась, что она просто сдохнет и станет трупом, и тогда что? Надо было срочно принимать решение, пока эта слабая малолетка была жива. И Тоня приняла. Она сунула поникшую куриную голову в притвор двери и хлопнула дверью. Даже крови почти не было. «Конечно, – подумала, – никогда не получается так, как хочется, но в чем-то, может, так и надо? Ты мне битую птицу, и я тебе битую. Видишь, не заискиваю. По нулям у нас с тобой…»
Наконец Тоня пошла и умылась с мылом, потому что крем этот долбаный достал ее. Стала кожа стягиваться не там, где надо, даже глаз потянуло. Правда, когда умылась, глаз все равно тянуло. Такое впечатление, что хотелось глазу сбежать куда-то на висок, даже пустота там, соответствующая объему глаза, дырка образовалась, и Тоня теперь все за глаз хваталась, проверяла, на месте ли он.
С виду же все было нормально. «В конце концов это самое главное – с виду», – думала Тоня. Хороша бы она была, позвала гостя, а у самой глаз уже на виске и тянет за собой нос и щеку. Она таких в поликлинике насмотрелась, не дай бог. Парез называется. Ой, не дай бог! Тоня кинулась к зеркалу и еще раз придирчиво, с ощупыванием себя рассмотрела. Ничего. В виске у нее бывает и пустота, и колет, и стучит, и тянет. Это из-за курицы чертовой она распсиховалась. Была живой, стала мертвой. Больную, значит, сволочи, ей продали. Иначе с чего бы так быстро? Хорошо, что успела ее дверью. Теперь сварить можно будет… А самостоятельно сдохшую она бы сроду в рот не взяла. Хотя что мы знаем про то, что едим? Каких нам государство подсовывает – живых резаных или мертвых резаных? А те же кооператоры? Тут ведь совсем без гарантий. Они и человечиной торганут без сомнения. Это такой народ. Отребье.
И тут раздался звонок в дверь. Тоня от неожиданности аж присела. Это ж неужели? Так рано? Хорошо, что умылась, так у нее все готово. Вот снимет фартук выгвазданный, выбросит его, нацепит новый, белоснежный, ягодами покрытый, с карманами и нагрудничком, а на нем спелая вишневая веточка. Гарнитур «Вишня», цена двенадцать рублей, будь ты проклята индивидуально-трудовая деятельность.
За дверью же стояла дочка. Неправильно стояла, она должна была стоять в Ленинграде, у них туда экскурсия была намечена. Разве ж бы Тоня так сказала смело про воскресенье, если б не знала, что дочка еще в пятницу уехала?
– Ты чего? – спросила Тоня.
– А ты чего? – спросила дочка.
– Ты ж уехала, – сказала Тоня.
– Уехала-приехала, – ответила дочка. – Да чего ты, мам, вяжешься?
Дочка переступила порог и увидела курицу.
– Цыпа, цыпа, цыпа! – закричала она и толкнула ее ногой. – Ниче себе. Чем это ее так?
И она опять же ногой поворачивала курицу туда-сюда, туда-сюда.
Тоня, когда нервничает, смотрит в окно. Ничего, правда, не видит, а смотрит. И сейчас встала, потому что, как быть, не знала. «У меня понятие есть, – думала, – дочь не выгонишь». – «Выгонишь, выгонишь, – отвечала сама себе. – Куда ж ты денешься. Не младенца же? Она совсем уже взрослая, может, и у нее такое уже есть…» Есть или не есть? Застучало сердце. Ведь вот сроду таких мыслей не приходило. Сроду. На эти темы – ни-ни… Даже про менструацию они говорили только если там: «Мам, вата у тебя есть?»
А тут у Тони такое событие, а от дочери в квартире тесно и вообще… И не было выхода, потому что Тоня – порядочная женщина, а не какая-нибудь потаскушка, потому у нее в жизни и случился недостаток в мужчинах, что она считается с мнением и ей не все равно, что люди скажут, а дочка, конечно, сволочь, явилась, зараза, кто ее ждал, и надо, надо ее выгнать, чего это она с матерью не считается, в конце концов!
Дочка же обнаружила приготовление в кастрюлях, и стаканчики граненые пятидесятиграммовые донышком вверх стояли, подсыхали, значит.
– Господи! – заорала дочка. – Так к тебе мужик, что ли? А я не соображу, чего это ты в вишнях… Ладно, я линяю…
Она ломанула полбатона, схватила кусок колбасы и, засмеявшись матери в лицо, хлопнула дверью. Тоня кинулась на площадку:
– Вечером приходи! Вечером! Я лапшу сварю.
Тоня вернулась со слезами на глазах. Вот у нее дети как дети. Взять хоть сына, хоть дочь. С каким понятием выросли, это ведь ее заслуга, не чья-нибудь. И не имеет значения, что они с ней считай не жили. Молоком она их кормила? Кормила. Вот они и стали такими. Сын лейтенант, чистоплотный такой, крепкий, жидкости мало употребляет, и дочка тоже умная, идейная, в отдельной комнате живет. Она, Тоня, сегодня же напишет сыну письмо, пригласит в гости, надо, напишет, познакомиться вам с сестрой.
Она выглянула в окно и увидела, что дочка сидит на лавочке. Тоня кинулась на балкон.
– Уходи! – закричала.
– Ладно тебе! – ответила дочь. – Я ем!
«Ну пусть поест», – подумала Тоня.
А дочка сидела и пялилась на подъезд, ей хотелось узнать, кто придет к матери. Не охламон ли… С нее, дуры, станется… Вырядилась в вишни. Курицу где-то выловила. Нет! Чтобы в жизни чего-то добиться, ей никаких указаний не надо – делай только наоборот матери. Мать у нее – показатель неверного пути. Мать не стала школу кончать, она – кончает. Мать не жила общественной жизнью, она ею очень даже живет, у матери желания и мечты коротенькие, как и мозги, а у нее – заброс будь здоров, она даже в Кремле себя мысленно допускает. Почему бы нет?!
Если сейчас в подъезд зайдет нормальный мужик, прилично одетый, не пьяный, на здоровье тебе, мама родная. Живи полноценной жизнью. Ну, а если алкаш, она тут же это дело поломает. Спустит его с лестницы и матери наподдаст.
Тут как раз и появился мужик с черной бутылкой в вытянутой до земли авоське. Шел и смотрел на окна их подъезда. «Господи! – подумала дочка. – Где ж она такого нашла?» Штаны широченные, обтерханные, морда небритая, пиджак в такую обтяжку, что разрез сзади разошелся треугольником, в котором торчал вывороченный карман. «Об-ра-зец! – подумала дочка. – Я его сейчас…» И она даже сделала шаг в его сторону, а мужик прошел мимо подъезда. То, что она встала со скамейки, было моментом в этой истории решающим. Потому что человек, если он намерился идти, должен идти, в нем уже возникла энергия движения и не просто все в человеке поломать обратно. Вот дочка и стояла, раскачиваясь на носках, приготовленная для резкого хода и резкого поступка.
…А он как из земли. И протягивает ей нечеловечески желтую дыньку. Так уютно лежала она на его широкой ладони. Дынька-«колхозница». Дынька-женщина, которую оглаживали крепкие мужские пальцы. А дынька млела.
– Надо? – спросил парень, и серые его глаза обежали дочку с ног до головы и обратно до ног, где и остановились.
– И сколько? – спросила дочка своим хорошим, в крике призывов поставленным голосом.
– Пойдем договоримся, – ответил парень, кивая в сторону трансформаторной будки. И дочка безоговорочно поняла, что ничего не остается, как идти следом. Потому что хуже нет запущенной и нереализованной энергии движения.
Они одновременно посмотрели на окна дома и увидели размахивающую курицей и что-то кричащую Тоню, на что дочка лениво подумала: «Чего машет, дура?» А парень тоже – не исключено – подумал: дура. А какие другие слова можно произнести в голове, видя женщину с дохлой птицей в окошке?
На самом же деле Тоня не кричала. Это они ошиблись, глядя вверх и через стекло. Тоня, конечно, открыла рот для крика, все правильно, так и было, другого и быть не могло, если поставить хоть кого на ее место. Закричишь тут! Завопишь! И Тоня – человек, подобный всем другим людям, – именно для крика открыла рот, но перед самым возникновением звука ее от самой макушечки до пяточек так ударила боль, что звука уже не получилось! Боль перегородила путь звуку, вышло одно сипение. Тоню хватило только на то, чтобы развернуться к кухонному столу и лечь на него грудью. Она так и висела на нем, как какая-нибудь каракатица в обмороке, обвисая стол руками и ногами. И угол стола вонзился ей прямехонько между ног. Неожиданное острое наслаждение пронзило ее всю, и Тоня аж взлетела. Тело невесомое, легкое, гибкое – отделилось от стола и парило в долбаной невесомости, есть, значит, она, зараза, существует на самом деле. Мешала только битая птица, когтем державшая ее пальцы, не будь ее, вылетела бы Тоня в форточку, вон какая она стала изящненькая, как струйка дыма, что тает вдруг в сиянье дня… Ей бы без птицы этой проклятой лететь и лететь, так как именно теперь ей нет преград ни в море, ни на суше, и надо только сбросить балласт в виде курицы, и тогда взовьются кострами синие ночи, но именно курица не пустила ее в вольный полет, более того, она исхитрилась – битая, а сильная – ударить ее о столешницу всей грудной клеткой, и последним вскрикнуло в ней наслаждение, а курица, подмигнув ей нераздавленным левым глазом, сказала четким человеческим голосом: «Остановка остров Ньюфаундленд… Конечная».
Ознакомительная версия.