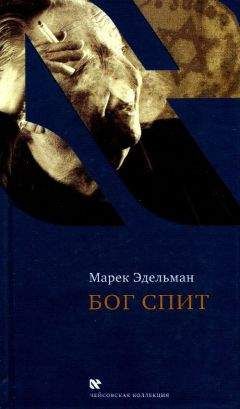Ради этих неуравновешенных, как у бабочки, порханий, ради мгновенной виртуозности, состоявшей не в стремительности и стройности, а в неправомочной, аляповатой точности, выглядевшей гирляндой совершенного везения, Королев стал чуть ли не каждый день под вечер приходить в машинный зал. Неподвижно выжидал этот момент медленного пробуждения, этот умственный выпад летучего мыша. Сначала оживала слепая мошонка – две морщинистые шишки потихоньку набухали, обтягиваясь кожистым черным глянцем. Затем прорезывались блестки зенок, вдруг дергалось рукастое крыло, внизу приоткрывалась долька сморчковой рожицы нетопыря.
Через час бутон распускался и разом срывался скомканным веером, картой, распахнутым кентавром полушарий, бесновавшимся то задом наперед, то выпадом вбок, на манер стрекозы, с низким хлопающим гулом, который был слышен только потому, что мышь изблизи изучал Королева, оглядывая путаницей зигзагов, молниеносных наскоков, то заходя с затылка, то целясь, – и, потеряв интерес, вышмыгивался в узкий скол в верхотуре окна, освещенный лучиками трещин: проем этот был настолько узкий, что казалось, будто мышь прошивал закрытое окно…
Отчего он жил здесь один, почему ни разу не порезался при пролете через стекло, – то ли ему было выгодно отшельничать, то ли никто, кроме него, не умел так точно пролетать в щели отрицательной ширины, и где он собирался зимовать и питаться?! – всё это было неясно, и оттого чувствовалась в нем одушевленность, по крайней мере одушевленность умысла.
Флигель – Молочный дом, где ночевал Королев, – к счастью, стоял в отдалении от проходной, у которой слонялась ненавистная ВОХРа. По всей стране стервенели охранные службы, осознавшие, что утрачивают хлеб секретности. Открытое место для них было как пустое. Шинельная институтская охрана минуты по две мусолила пропуска: зыркая, беря на извод, создавая очередь. Даже днем Королев предпочитал перелезть через ограду.
В их общажке не было ни душа, ни горячей воды. Мыться приходилось в умывалке – в тазу, подогревая воду в ведре кипятильником. При сноровке для тщательной помывки хватало одного ведра.
Два его соседа-аспиранта – худой спортивный малый и белобрысый увалень, обретавшийся всё время на постели, на которой и ел, и писал, – были взвинченно погружены в тесты по английскому языку и специальности, необходимые для поступления в зарубежные университеты. Оба они бредили отъездом и воспринимали Королева как ничтожного неудачника, пренебрегшего или не справившегося с великолепным шансом. Они ненавидели Королева – и ненависть их была замещением боязни: так живые брезгуют мертвым не столько из гигиенических соображений, сколько из-за того, что боятся оказаться на его месте.
Королев понимал это и внутренне соглашался – да, он мертвец.
Он перестал с ними разговаривать.
Соседи перед сном мучили его стрекотом электрической бритвы и дребезгом бардовских песенок, издаваемых диктофоном. Задор этих гитарных дуэтов, простроченных глупыми стишками, однажды поднял Королева над койкой. Диктофон пробил окно.
В начале августа оба соседа один за другим получили приглашение в Университет Южной Калифорнии. Они купили помидоры, две бутылки марочного вина и призвали Королева к застолью. Он понуро сидел вместе с ними, слушал их лепет о предстоящем путешествии, о том, как завтра они пойдут сначала в посольство и сразу после – покупать валюту, что им надо успеть съездить домой – одному в Курск, другому в Сумы – попрощаться с родителями.
Повалившись спать, вскоре они заблевали проход между койками.
Королев спасся тем, что ушел в город: он любил на рассвете пройтись по пустым улицам, пересечь сквер, пойти вдоль слепящих трамвайных путей, над которыми вставало солнце – вдруг медленным взрывом помещаясь под задним мостом поливальной машины, распустившей радужные мохнатые струи.
Королеву нравился усадебный парк, он бескорыстно изучал его, подобно энтомологу, погружающемуся в узорную равнину мотылькового крылышка. Из куска толстой фанеры, картонки, рейсшины и проволоки он соорудил полозковое приспособление для съемки местности, из листов миллиметровки составил альбом видов. Подолгу сидел над ним, штрихуя фасады, расставляя пометки, вытягивая стрелки, прорисовывая лебедей, а вместо селезня – кувшинку с жаренной кверху ножками уткой. Составил он и себя на берегу пруда – из гибких веточек и бусинки головы. Но на следующий день стер.
Все эти занятия, связанные с кропотливой мелкой моторикой, ему были нужны для успокоения. Это был подходящий род медитации. Ни о чем особенном он в это время не думал, просто старался нащупать, выстроить внутри некую структуру сознания, которая сама бы продуцировала забвение. Дело это подвигалось трудно, но с верной постепенностью – иногда, правда, обжигая вспышками воспоминаний.
Например, о том, как каждый год в конце мая он натачивал о кварцевую лампу нож, брал две газеты, выходил из общежития, переходил железную дорогу и входил в березовую рощу.
Молодая листва печальными косичками свисала вверху на фоне гаснущего неба. Несколько парочек из студентов располагались там и здесь на опушках. Брезжили костерки. Слышался стеклянный звон: кавалеры поили подруг портвейном и березовым соком, который собирали в литровые банки, прикрученные проволокой под язычком надрезанной бересты.
По кустам заливались соловьи. Щелкали, прядали, утькали, хлестали, взрывали воздух тугими многогранными объемами. Светлые стволы, прогнувшись в широком охвате, вели вокруг хоровод. Распознав ближайший источник трели, Королев пригибался, стелился. Остроносый комочек, подвижный крылатый карлик, блеснув на ветке глазом, вздувая зоб, закладывая клювик, задумываясь, спохватываясь, взметывая шейкой, выводил череду переливов.
Разглядев, Королев прокрадывался в сторону, а затем направлялся через редеющий лес к озеру. Выкупавшись, пронзив нырком и процарапав кролем топаз ночной воды, не обсохнув, улавливая от кожи тинистый запах, Королев пробирался на зады полей Опытной агрономической станции.
Три стеклянных параллелепипеда пылали в стороне жаром оранжерей. В этих высоких световых дебрях чудилось чириканье тропических птиц, трепетание колибри, шипение и шорох древесных змеек: там росли остролистые ананасы, розы, манго, пальмы. Алхимическая виртуозность помогала селекционерам выращивать химеры растений. Грядовые межи были уставлены шпалерами, увитыми невиданными видами лимонника, мальв, хмеля, гороха, омелы. Королев забирал левее, в темень, крался, покуда ноги не утирались тугим холодным лиственным ходом.
И тогда он припадал к земле, стелился пластуном. Вверху на отмели лунного света веско раскачивались островерхие бутоны. Листья, стебли поскрипывали, как мачты. Роса блестела ртутью. Вымокнув, Королев выбирался туда, где повыше и гуще, развертывал в несколько слоев газеты – и начинал жатву. Он на ощупь подрезывал тюльпаны, ерзая, потягиваясь, распространяясь вокруг на несколько своих ростов. Он берёг хрупающий, покряхтывающий звук, нежно скрадывая в ладонях тугие стебли. И после не мешкал, обжимал ведерную охапку цветов и выкраивался, то пятясь, то прыгая, – прочь.
Обычно, запрятав в орешник ворох цветов, он коротал ночь в роще у костерка и ранней электричкой вез букет в Кунцево.
В последний год, перед отъездом, в воинство королевских тюльпанов затесался черный принц. Как собачья пасть, черно-багровая сердцевина открылась из-под газет в пучине алого.
Он закурил, то закусывая фильтр, то расслабляя челюсти для судорожного вдоха.
…Наташа постояла, глядя на цветы. Вынула из строя черный тюльпан, выпустила его в форточку и, обернувшись, глядя прямо близоруко-раскосыми, ставшими еще огромней от слез глазами, распустила поясок, шагнула и, слепя волной нахлынувшей наготы, притянула его голову к груди, дав жаждой соска погасить всхлип затмения.
Вениамин Брик был больше озабочен курительной трубкой, чем последним своим аспирантом.
Виделись они два раза в неделю – во втором этаже Эрмитажа, в библиотеке. Вид парка и пруда в три окна и балкон, открывавшийся Королеву с дивана, скрашивал часы беседы.
В кресле, свистя и хрюкая трубкой, обжигая пальцы догоравшими спичками, Брик раскладывал пасьянс повествования. Обреченное на несходимость, оно носило характер анамнеза неизвестного заболевания. Десять лет назад группа, в которую входил Брик, провела уникальный эксперимент по измерению массы нейтрино. И до сих пор было неясно, что же им удалось измерить. Прочие участники давно разъехались по мировым научным центрам. Брик медлил, только поздней осенью собираясь в Швейцарию.
Окутавшись клубами дыма, он вновь и вновь обдумывал вслух результаты эксперимента, его интерпретации. Нейтрино регистрировались в результате обстрела мишени высокоэнергетическим пучком протонов. Ускоряемые протоны поставлялись в синхротрон источником. И мишень, и источник содержали долю «примесей». Вопрос состоял в нечистоте: насколько эти примеси могли повлиять на результаты измерений.