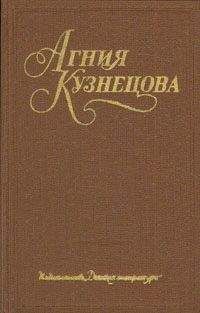Ознакомительная версия.
Черт-те что, мелькнуло у него, – до чего же смерть досадная: тут, среди такого покоя и порядка, и, главное, в тихом океане вечной Ленькиной любви… Вот, на первый взгляд, стряслись у него и у Лени такие разные беды. Очень разные, подумал он, а суть-то одна: суть в том, что четверть века ты укладывался спать, и справа от тебя была она. И вот – нет ее, нет ее. Нет ее…
Окно Рембрандта. 1995
Господи, как наловчиться обрубать все эти проклятые мысли, все сцены из прошлой жизни? как травить этих гадов ползучих в тот момент, когда они возникают? – вот сейчас, вслед за мыслью о Лене и Лиде немедленно всплыла она на платформе пригородной электрички, гасящая свою антиастматическую сигаретку о подошву туфли. Спрятала окурок в пачку (пепельная прядь занавесила щеку), воскликнула:
– Видишь, как я экономлю твои деньги, жила!
Он даже мысленно не произносил ее имя. Ему казалось, если он назовет ее так, как называл двадцать пять лет, то дрогнет вся кропотливо возведенная им за последний месяц плотина, и тогда невыносимая боль хлынет и затопит, и размоет, разнесет в клочья саму его личность… Главное же: гнать, затаптывать в себе ту сцену последнего суховатого объяснения (вновь – сигарета, прядь, упавшая на лоб, свежий маникюр на любимых пальцах. Костик унаследовал материнские руки, слишком изящные и нервные для мужчины, и – вот уж что можно сейчас вспоминать спокойно: когда в очередной раз сын пропал на неделю и Михаила вызвонили опознать в морге тело какого-то бродяги с обезображенным изрезанным лицом, он сдавленным голосом попросил старшину открыть руки покойника: их он узнал бы в любом состоянии).
Его сестра Люба единственная была посвящена в сюжет; сама опытный врач, настаивала на консультации с психологом. Считала, сам он не справится. «Пойми, – уговаривала, – все мы в этой безумной жизни нуждаемся в костылях. Погляди в зеркало: ты за три недели скелетом стал!»
С Любой, которая была много старше, вырастила его и до сих пор любила, как своего ребенка, тоже надо было держать ухо востро. Начиная разговор с разумной деловой интонации, она мало-помалу заводилась, вспоминала всю унизительную подоплеку их разрыва, начинала плакать и часто впадала в настоящую истерику, приговаривая: «Мерзавка, мерзавка!!! Что она думает– что этот аспирант паршивый останется с ней до смерти?! Восемнадцать лет разницы!»
«Перестань!» – кричал он сестре. Даже смешно: за годы семейной жизни он настолько привык чувствовать себя частью жены, даже ее принадлежностью, что и эту ситуацию, и этот, как говорила Люба, «позор и кошмар», этот фарс, эту грязь ощущал как собственную вину, которой надо стыдиться. И стыдился! И когда сестра принималась плакать, горько жалея брата и проклиная «предательницу» («Она поплатится за все, за все! он вышвырнет ее очень скоро, и никому она не будет нужна!»), терялся и виновато бубнил: «Люба, прошу тебя… прошу тебя…»
Идее евангелия от психолога он внутренне яростно противился. Таблетки – ладно, пусть, чтоб засыпать нормально. Все остальное – вздор! Как представишь эту консультацию-ковырялку. «И что вы почувствовали в тот момент, когда…» Вздор. Вздор! Просто: забыть. Пройдет месяцок-второй, сказал он себе, успокоишься, найдешь другую бабу… И после сих успокоительных слов уже привычно ощутил ножевой удар в солнечное сплетение и с обреченной ясностью понял, что никакой другой бабы никогда у него не будет; что жизнь кончена, и прекрасно, и плевать.
Так и ворочался всю ночь, пялясь в желтовато-серый квадрат окна…
Уснул на рассвете, уже и небо растаяло и растеклось сливочной лужей, и птицы разговорились-разохались… Проспал Ленькину хлопотливую заботу: тот выбегал в соседнюю булочную, оставил для него на столе завтрак: еще теплые круассаны, масло, сыр, сливки, а также письменный приказ не лениться, а сварить себе кофе.
Он и сварил, и обстоятельно позавтракал, счастливый этим спокойным одиночеством в чужом безопасном доме, хоть и заполненном недавней бедой, но бедой человечной, теплой, любовной…
В своей записке Леня подробным рисунком (линии, стрелочки, номер автобуса обведен кружком) объяснил, как доехать до центра. Выходило, что и машина не нужна – автобус идет прямо к озеру.
На листке лежали, придавливая бумагу, несколько местных монет – Ленька, Друг, все предусмотрел. Видимо, обменные пункты были только в городе.
Он оделся и вышел, аккуратно заперев за собою дверь, уже на улице пожалев, что оставил шарф, – свежий мартовский ветер принялся трепать по щекам и хозяйски ощупывать шею. Но возвращаться не хотелось. Он миновал большой квадрат двора, свободно засаженный укрощенными платанами, отыскал остановку и чинно поднялся в подкативший автобус.
Здесь была представлена вся этническая пестрота общества. Черная няня везла куда-то семилетнего рыженького мальчика, два молодых азиата сидели, уткнувшись в какие-то конспекты, две мусульманские женщины в длинных балахонах и косынках на головах тарахтели о чем-то на своем языке, а у дверей, приготовившись выйти на следующей остановке, тихо переговаривались между собой пожилые русские супруги.
Вот есть же где-то разумная внятная жизнь, думал он, разглядывая пассажиров автобуса, есть же уважение к законам, к государству, к личности…
И сам автобус плыл как-то размеренно, уважительно, разматывая заоконное пространство с заурядными, но чистыми и приятными домами, с неширокой рекой, берега которой заросли все теми же кустами солнечно-желтой форзиции, с красивым парком на холме.
Наконец автобус выехал на мост, и слева мощно развернулось озеро – еще бледное, в утренней дымке.
Он сошел на конечной и мимо огромной цветочной клумбы, посреди которой были вмонтированы часовая и минутная стрелки (клумба оказалась знаменитыми цветочными часами, о чем потом он вычитал в подсунутом Леней путеводителе), вышел к набережной, где, пошевеливая боками, тесными рядами стояли на воде разноцветные парусники; целый лес голых мачт.
Он шел вдоль ровно высаженных пятнистых платанов и бесконечного, насколько хватало взгляда, ряда обстоятельных бюргерских домов, судя по непременным мансардам – доходных. Шел, вдыхая свежий озерный воздух, украдкой радуясь своему приличному настроению, тому, что впервые за этот месяц получается спокойно отметать мысли о прошлом, о ней, о вине, о позоре, о всей непоправимой жизни и о том ударе в грудь, который ощутил он, когда понял, что она не разыгрывает его по телефону, а это вот сейчас, в эти вот минуты и происходит…
И едва вспомнил – вспыхнуло, обожгло, навалилось, стало сжимать и ломить сердце… пришлось срочно гасить фонтан боли, к чему за последний месяц он привык, приспособил разные внутренние механизмы. Лучше всего работал грубый окрик: заткнись, хватит, прекрати, все!!!
А вот и фонтан. Над гладью озера торчал водяной прут невероятной высоты и силы. Взмывал из глубины, словно там, на дне, пробило дыру в земной коре, так что струя земной боли выхлестывала над поверхностью воды…
Неорганично, думал он, любуясь жемчужно-розовым глянцем водного простора; эта вертикаль разбивает мягкую линию гор, плоскость озера. Торчит такая пульсирующая дура посреди воды…
Но когда часа через полтора он возвращался по набережной мимо зимующих парусников и павильонов летних кафе, под внезапным солнцем в струе фонтана заиграла чудесная сквозистая радуга…
Женева показалась ему размеренной, уютной, скучноватой. Озеро, конечно: оно придавало всему вокруг тот особый голубоватый простор, что витает над водной гладью, одушевляя холмистые берега и любые на них строения.
Он исходил все улочки, все площади средневекового центра, собирался зайти в кафедральный собор Сан-Пьер – Леня вчера говорил что-то о витражах, – но не зашел, потому что проголодался. Выбрал явно дорогой приозерный ресторан, где на его вопрос – что бы взять из местной кухни – невозмутимый, но предупредительный официант посоветовал заказать «филе де перш» – блюдо из наших окуньков, мсье, визитная карточка Женевы.
Ну что ж, сказал он себе, вот ты и путешествуешь один, без нее. И не пропал, черт побери, не сгинул.
А ведь сколько их было за двадцать пять лет – этих счастливых странствий, с азартом продуманных ею до мельчайших деталей, когда в Интернете вызнавались даже номера и время отправления раздолбанных местных колымаг на каком-нибудь маршруте Ванс – Экс-ан-Прованс… Ну, хватит! Сказано тебе: хватит!!!
Ага, вот и окуньки. Выглядят прилично, а как там на вкус? М-м-м, ничего, годятся вполне. Но мы на Истре ловили и жарили повкуснее…
На Истре у них была дача. Небольшой дом в два этажа, четыре комнаты – купленный в начале двухтысячных, когда у него вдруг в работе поперло: проекты, знакомства, деньги.
Ознакомительная версия.