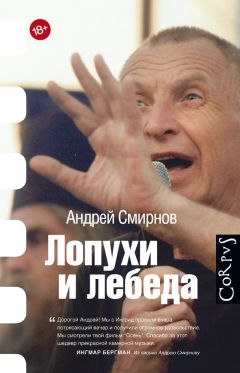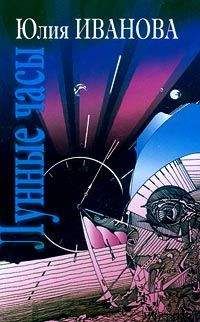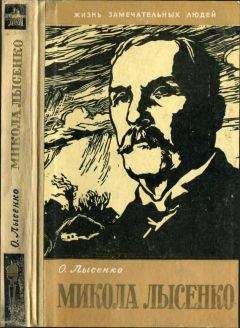Ознакомительная версия.
Кто-то разговаривал внизу. Над головой у него загорелась лампочка. В подъезде включили свет.
Поколебавшись, он сложил букет на подоконник и взбежал на этаж. Он позвонил в квартиру.
– Маша дома?
Васильков был сонный, в халате.
– Нет ее, – сдержанно ответил он.
– А где она?
Васильков засопел. Взгляд его невольно приковался к багровому кровоподтеку на щеке парня.
– У китайцев есть странный обычай, – сказал он. – Они при встрече здороваются.
Толик выговорил с натугой:
– Здрасте.
– А твой отец знает, где ты ходишь и когда явишься? И в каком виде?
Дверь захлопнулась.
Толик пошел вниз. Он смотрел в окно и курил.
На улице не осталось ни души. Светофор мигал над пустынным переулком.
По ночам отца мучила жажда.
Мать просыпалась от перезвона пружин и, затаясь, слушала, как он чешется, вздыхает. Он садился, сбрасывая простыню, и она из-под ресниц подолгу видела перед собой его костистую спину. Иногда он выходил на балкон и жадно дышал, в груди у него непонятно булькало.
Он плелся на кухню. В темноте у него начинала кружиться голова, он пугался и замирал, выставив в темноту руки.
Что-то упало, звякнув. Он почувствовал под ногой шероховатый осколок, переступил суетливо и напоролся на другой.
Он чертыхнулся в голос и зажег свет. Толик, одетый, лежал на раскладушке, глядя на него ясным бессонным взглядом.
– Я тут в потемках колупаюсь, а он молчит! – вскипел отец.
Он захромал к мойке, пустил воду сильной струей. На сером линолеуме осталась петля мелких кровяных точек, темно блестевших. Напившись из-под крана, он сел на подоконник и извлек из ступни фарфоровую крупинку.
Мать уже, охая, натягивала блузку.
– Только без йода!
– Да ему сто лет, он уже и не щиплет совсем…
Пузырек с йодом отец у нее отобрал. Она перебинтовала ему ногу и подмела осколки.
– Совсем сдурела? – сказал он, обнаружив, что из глаз у нее бегут слезы.
– Чашка-то последняя была, из теть Катиного сервиза. На свадьбу даренная… – Она улыбнулась виновато, утирая ладонью мокрое лицо, и заторопилась, высыпала картошку в раковину, поставила чайник. – Может, к Леше сегодня съездим?
Отец не отвечал. Сорвав с календаря листок, он читал на обороте.
– Опять на целый день пропадешь? Чего ты, ей-богу, туману напустил? Устроился ты или как? Все спрашивают, а я и не знаю, чего сказать, прямо стыдно… Боишься, что я денег попрошу? Не бойся, не нужны мне твои деньги. Жили мы без этих денег, не померли, и еще проживем… Толь, ты бы хоть разделся, а то прямо как в казарме.
– Ты его не трожь, – ухмыльнулся отец. – У него с утра мыслей, как у кота блох.
Толик сбросил ноги, сел.
– А то – поехали к Леше, послушай ты меня разок! – канючила мать, а пальцы ее сновали без передышки, текла между ними картофельная шкурка. – Даст Алешка денег, вот увидишь. Упаду в ножки – и даст. Как-никак брат. Он тебе добра хочет, Федор. Чего тут хорошего? А там – и картошка своя, и лес под носом. Через улицу Тараскин полдома продает, с огородом, поторговаться можно. От шоферни проклятой за тридевять земель…
– Совсем ты сдурела, – сказал отец.
По его губам бродила кривая ухмылка, и обиженная, и нахальная.
За окном посветлело. Мать погасила лампу. Толик вздернул на плечо сумку с красной кошкой и ушел.
– Да поешь ты хоть раз как человек! – закричала мать. – Господи, что за люди такие…
Бита унеслась в горячий воздух, закувыркалась, легла на размякший асфальт.
Он раз за разом промахивался. “Письмо” оставалось нераспечатанным. Биты летели в заградительную сетку, и она вздрагивала, дробно звеня.
Он скинул рубаху, выложил “пушку”.
Он снял темные очки. На стройку вползал самосвал, исчезая за стеной цементной пыли. Солнце слепило, все резало белизной – дощатый забор, дом, подросший на несколько этажей, закаменевшая в колеях земля. Он дал глазам привыкнуть и взял биту.
Лицо его заострилось, твердело, словно проступал его костный каркас. Сухой тревожный огонь разгорелся в глубине зрачков, и он, вскрикнув, бросил.
Бита угадила в самое подножие “пушки”.
Помешкав, он подошел к сетке. Собрал городки, снова выложил “письмо” и вернулся на дальний кон.
В вестибюле было столпотворение, стояли на площадке и в коридорах. Голоса гулко отдавались под потолком. На лестнице заворачивались, сталкиваясь, два потока, и Толик с трудом добрался к дежурному окошку.
– В восьмую комнату! – прокричал лейтенант и показал наверх.
Дверь в восьмую комнату была закупорена спинами ребят. Там, за спинами, нависла тишина. Он прислушался. Вдруг грянул взрыв оживления, голос требовал порядка. Толик поднажал, и его внесло внутрь.
У доски майор вручал повестку рыжему парнишке. Призывники тесно сидели за столами, стояли по стенам.
Прапорщик вызывал следующего, и опять волна веселья прокатилась по рядам – в проход, отдуваясь, вылезал толстяк.
– Всем, кто получил повестки, оформить увольнение с работы и в указанный срок явиться на сборный пункт. Опоздавшие есть?
Толик поднял ладонь.
– Фамилия?
– Оськин.
Прапорщик ворчал, роясь в списках:
– Паспорт давай… Чего опаздываешь?
Он заковыристо расписался на квитанции, и новенький красный паспорт исчез в целлофановом мешке, набитом паспортами.
– Рост у тебя, Оськин, гвардейский, – зычно сказал майор, вручая повестку. – Гляди к себе на свадьбу не опоздай…
Он подождал, пока уляжется смех, и обвел взглядом всю комнату.
– Поздравляю вас, ребята. Запомните этот день. Вы призваны на действительную службу в нашу Советскую Армию. Теперь вы – мужчины, солдаты. Вам предстоит исполнить священный долг гражданина перед Отечеством. Родина поручает вам беречь и охранять свой мирный труд. Будьте достойны ее доверия!
Все сразу загудели и повалили к дверям, образовалась пробка. Толстяк врезался в толкучку и подмигнул Толику:
– Куда везут, не слыхал?
– Говорят, в Благовещенск, – сказали рядом.
– Привезут – узнаешь…
– Сказали, кепку с собой брать, а у меня нету, где ж я возьму?
– Сказали – значит, положено! – сказал прапорщик.
Маша появилась на рассвете. Он не заметил, откуда она взялась. Он увидел сразу, как она идет через двор.
Ожил тополь под окном, на ветру засеребрились листья. Маша поежилась и пошла скорее. Пронзительно и чисто перекликались в холодном воздухе воробьи.
Он вслушался в торопливое чирканье подошв о ступеньки. Вот она приостановилась на третьем этаже. Вздохнула. Опять замерли шаги, совсем близко. Сейчас она покажется внизу. Он слышал ее прерывистое дыхание. Она все не шла.
Он высунулся в пролет. Маша стояла на одной ноге, прислонившись к перилам, и что-то вертела в руке. Она подняла голову и увидела его.
– Каблук сломался, – сказала она шепотом.
Он недоверчиво покосился на каблук, лежащий на ладони у Маши. Перегнувшись, он забрал у нее босоножку и каблук, подошел к окну, обследовал со всех сторон и закурил.
Маша заковыляла наверх и скрылась за дверью.
Он вытащил из заднего кармана нож, нахмурился и, сопя, принялся за дело. На батарее он выпрямил гвозди, торчащие из каблука. Из спичек он сделал пробки, аккуратно загнал их в отверстия в подошве и срезал.
Маша сошла в халате и в тапочках, зевая, с кефиром в руке.
– Клей дома есть? – спросил он.
– И так сойдет…
Она поставила локти на подоконник, потягивала кефир из бутылки и смотрела в окно.
– Птички поют, – сказала она.
Он протянул ей босоножку.
– Ну надо же… – обрадовалась Маша.
Он хотел обнять ее, но она выскользнула и вбежала на площадку.
– Иди спать, лунатик.
И махнула ему рукой.
Улочка спускалась к реке. Он шел посреди мостовой, невольно убыстряя шаг. На том берегу плыли серые облака в степи, и серой была река внизу. Ветер вздувал пыль над ас– фальтом.
На углу открыли булочную самообслуживания, и он зашел внутрь. Кассирша в полном одиночестве жевала ситник. Он взял такой же. Хлеб был еще теплый.
Капли запрыгали по земле, и сразу налетел дождь.
Он нырнул под арку во двор. Он ел упругий, как резина, пахучий ситник, стряхивая муку с пальцев.
Деревья на набережной трещали протяжно. Сизая пелена закрывала реку.
Женщина в белом халате стояла в дверях парикмахерской напротив, глядя на дождь.
Он побежал через улицу, придерживая сумку.
В пустом зале негромко играло радио. Женщина вошла следом за ним, показала на кресло. Она завернула его в простыню и вздохнула.
– Под ноль… – бросил он.
Она неожиданно улыбнулась.
– Солдатик пришел! – нараспев сказала она, включая машинку.
В зеркале он видел, как тусклая борозда ложится от макушки и на простыню съехал белесый льняной клок.
Стрекот машинки навевал дремоту. Прохладные пальцы парикмахерши пахли мылом.
– Я хочу искупаться в море, – сказала Маша. – Я устала, папа.
Ознакомительная версия.