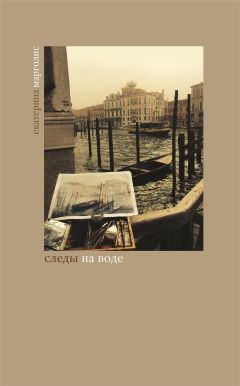Ознакомительная версия.
Собственно, работы на выставке не имели к Бродскому непосредственного отношения. Они не были иллюстрациями. Они выросли из чтения. Их вызвало к существованию не столько буквальное содержание текстов Бродского, сколько его взгляд на вещи.
Пишущий на то и художник, что постепенно возвращает речи зримость. Бродский – почти букварь. Он впадает в зависимость не только от языка, но и от алфавита, от звучания фонем и начертания букв:
а – ангина, воспаленное горло: «<…> и подъезды, чье небо воспалено ангиной / лампочки, произносят „а“» («Венецианские строфы» (1), 1982); «Цветы с их с ума сводящим принципом очертаний, / придающие воздуху за стеклом помятый / вид, с воспаленным «А», выглядящим то гортанней, / то шепелявей, то просто выкрашенным помадой» («Цветы», 1993);
б – «Мелкие, плоские волны моря на букву „б“, / сильно схожие издали с мыслями о себе» («Келломяки», 1982); «Люди выходят из комнат, где стулья как буква „б“ / или как мягкий знак, спасают от головокруженья» («Новая жизнь», 1988);
г – несвобода, зажатость: « – Как ты жил в эти годы? – Как буква „г“ в „ого“» («Темза в Челси», 1974);
ж – муха, жужжание, многоногость-многорукость: «Полицейский на перекрестке машет руками, как буква „ж“» («Декабрь во Флоренции», 1976); «Жужжанье мухи, / увязшей в липучке, – не голос муки, / но попытка автопортрета в звуке / „ж“» («Эклога 5-я (летняя)», 1981); «О букве шестирукой, ради / тебя в тетради / расхристанной» («Муха», 1985);
л – прошлое: «Предел / отчаяния. Общая вершина. / Глаголы в длинной очереди к „л“» («На выставке Карла Вейлинка», 1984);
о – начало и конец, вдох, воздух, ноль, ab ovo и далее в бесконечность: «Предвижу появленье языка, / где слово „яйцо“ вновь округлится / до буквы „О“. <…> Но идеальные нули бесплодны» («Ab ovo», 1996, перевод Виктора Куллэ); «В царстве воздуха! В равенстве слога глотку / кислорода. В прозрачных и сбившихся в облак / наших выдохах. В том / мире, где, точно сны к потолку, / к небу льнут наши „о!“, где звезда обретает свой облик, / продиктованный ртом. / <…> Воздух – вещь языка. / Небосвод – / хор согласных и гласных молекул, / в просторечии – душ» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлове», 1974);
у – улица, перспектива: «<…> и улица вдалеке сужается в букву „У“» («Всегда остается возможность выйти из дому на…», 1976); «<…> на площадях, как „прощай“, широких, / в улицах узких, как звук „люблю“» («Лагуна», 1973);
ы – рыдание, плач, вой, трагедия: «<…> Из гласных, идущих горлом, / выбери „ы“, придуманное монголом. / Сделай его существительным, сделай его глаголом, / наречьем и междометием. „Ы“ общий вдох и выдох! / „Ы“ мы хрипим, блюя от потерь и выгод / либо – кидаясь к двери с табличкой „выход“» («Портрет трагедии», 1991); «О, неизбежность „ы“ в правописаньи „жизни“!» («Декабрь во Флоренции», 1976).
И даже знаки препинания: «Из костелов бредут, хороня запятые / свечек в скобках ладоней» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлове», 1974); «И более двоеточье, чем частное от деленья / голоса на бессрочье, исчадье оледененья, / я припадаю к родной, ржавой, гранитной массе / серой каплей зрачка, вернувшейся восвояси» («Томасу Транстремеру», 1993).
Знаки этого букваря временами по изобразительной силе достигают наглядности иероглифики (а временами и нотной записи вплоть до звукоподобия). Свойство подобия языковых знаков тому, что они обозначают, в лингвистике и семиотике именуют иконичностью. Поэзия предельно иконична не только в строго научном, семиотическом понимании этого слова. И как нередко бывает, прямые декларации автора отступают перед свойствами языка, перед связями синтаксиса, перед внутренней формой слова. Язык говорит о себе и за себя. Вещи-слова, их очертания, возникающие из чередования линий и пустот. Окно, стекло, тело, пальто, облако… Эти частые герои стихов Бродского нейтральны не только грамматически (средний род, neutrum), не только музыкально, но и просто графически – «<…> „о“ в конце, ноль, дыра, крутящаяся пластинка, пронзительная нота тишины: Переводя иглу с гаснущего рыданья, / тикает на стене верхнего „до“ свиданья, / в опустевшей квартире, ее тишине на зависть, / крутится в темноте с вечным молчаньем запись» («Памяти профессора Браудо», 1970).
Когда-то все это было опасно. Во времена моего детства самиздат печатали по ночам на машинках через копирку на папиросной бумаге (тонкая, она пропускала больше копий). В самиздате ходило все подряд: стихи, проза, экономические статьи, переводы, библейские тексты, Ахматова, Бродский, Пастернак, Солженицын и третьесортные авторы. Самиздат был опасен. Кроме того, КГБ хорошо умел идентифицировать печатные машинки по «почерку» – у одной машинки «п» со стертой ножкой, у другой сбита запятая, в нашей проваливалась буква «о» и пробивала бумагу насквозь. Изрешеченные «о» страницы. Человеческая память устроена так, что не помнит боли. Быть может, так работает инстинкт продолжения рода. Человек помнит не боль, но о боли. Мы знаем не смерть, но о смерти. Мы помним не кого-то, но о ком-то. Мы то и дело хватаемся за спасательный круг этого «о». А искусству, которому не хватает прямой речи, не хватает и прямого дополнения. За редкими исключениями видим, читаем и говорим не что-то, а о чем-то. Рисуем о. Живем о. И не рискуем ничем.
Но все-таки дело художника и просто человека – постараться пройти через это «о». Или хотя бы подсмотреть в него: через «о» в бумаге видно насквозь.
О – окошко.
О – око.
О – не 0 (ноль), не отсутствие.
О – не очерченная кругом пустота. Наоборот.
О – выход за пределы круга, в другое измерение.
О – нарушение гладкой поверхности.
О – маленький, но прорыв.
О – может быть, больно.
О – это открытие.
О – вне текста.
О – впускает свет.
О, говори со мной, не молчи…
В перспективе «о» ниминуемо становится точкой. Той самой точкой, что по-русски называется «точка схода», а по-итальянски именуется «punto di fuga»… Точка побега.
В обратной перспективе от точки схода и подавно не убежать. В обратной перспективе – это всегда ты.
Часть третья
Обратные перспективы
Джон Донн уснул. Дин-дон – отозвался полуночный колокол Марагона на Сан-Марко. Блестящие монетки весеннего дня, целый день игравшие на поверхности канала, к ночи ушли на дно. Золото дня сменилось было серебром луны, но ненадого.
Не мировой финансовый кризис, а просто проплывающее облако затуманило лунный грош над зданием банка Unicredit, однако рассеянный, близорукий свет ее еще долго шарил по площади, тщетно пытаясь уловить наощупь в этот поздний час хотя бы одного прохожего. Шаги удалялись, слова на разных языках терялись эхом в закоулках, фигуры растворялись в узкой калле, как в горлышке воронки, а на площади оставалась тишина. Она не требовала перевода.
«All mankind is of one author, and is one volume; when one man dies, one chapter is not torn out of the book, but translated into a better language; and every chapter must be so translated; God employs several translators; some pieces are translated by age, some by sickness, some by war, some by justice; but God’s hand is in every translation, and his hand shall bind up all our scattered leaves again for that library where every book shall lie open to one another»42, – сказал давно уснувший Джон Донн и не стал переворачивать страницу.
А следующий день оказался пронизан той выбеленной солнечной дымкой, которая обнимает все разом: вода за кормой уже не дробится мелкими словами, как обыкновенно кажется, а качается чем-то цельным, пепельно-зеленым, тающим вдали и растворяющимся на глубине, прописанным так тонко, как бывает на картинах старых мастеров – когда ни одного мазка даже под лупой не разглядеть. Зеленовато-золотистое, переходящее в небесно-сизое. Точно разом выдохнутым словом или знакомой интонацией. На горизонте, как бы не на самом холсте, а сквозь него, смутными холмами просматриваются очертания города. Лодки и корабли пробуравливают эту туманность, на миг принимая обычные очертания и снова тая светло-сизыми намеками на предмет. Одна такая лодка прошла совсем рядом с бортом нашего вапоретто. В ней был гроб. Водная дорожка сошлась за кормой лодки, и скоро она потерялся вдали между вехами свай. Вот тебе и все слова, – мелькнуло в голове. Прямо перед выходом из дома в дверь позвонила наша Кристин. Красивая седая Кристин, которая вела все эти годы детскую воскресную школу. Ее никогда не смущало, что в католическую воскресную школу ходят православные дети, как, впрочем, не смущает это никого в нашем приходе: каждый волен оставаться собой. Кристин француженка, но уже давно живет в Венеции. Сколько добрых дел на ее счету! А вот теперь у ее мужа Джузеппе рецидив рака – лимфома. (Всего месяц назад мы шли по Санта-Маргарите после мессы все вместе. И с красавцем профессором Джузеппе, специалистом по истории Венеции, пили кофе, а я втихомолку любовалась на его отросшие волосы, а дочка уже дома сказала: «Ну вот, наконец я вижу, что от рака можно выздороветь».) А тут рецидив. Близкий по времени, сразу в нескольких точках, поэтому трудно излечимый – это тоже, увы, хорошо известно. После прошлогодней терапии организм еще не набрал сил, и часто лечение оказывается не менее губительным, чем сама болезнь. Надо дотянуть до пересадки костного мозга. Начали химию, так что уже хорошо. Но вот один из препаратов дал чудовищный сбой (или это растет опухоль?). В результате потеряно равновесие и координация глаза-руки, отчасти зрение и почти полностью – артикулированная речь. Все это произошло в несколько часов. Из больного, но все же цельного человека перед Кристин оказался некто, едва передвигающий конечностями и издающий нечленораздельные звуки. Джузеппе почти отрезан от мира людей. Есть надежда, что это обратимо, но пока никто ничего не знает. Джузеппе не может ни читать, ни писать, не может пользоваться телефоном и компьютером, он едва может попасть ложкой в рот. И при этом он прекрасно отдает себе отчет в том, что происходит. Он из тех, кто в палате продолжает работать, кто смело держит под контролем каждый шаг собственного лечения, он знает цифры и капли, медики советовались с ним как с коллегой…
Ознакомительная версия.