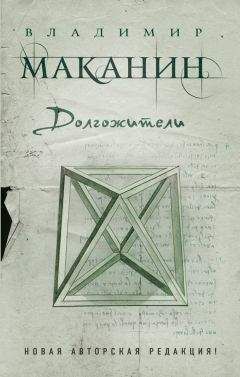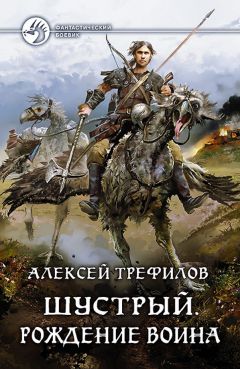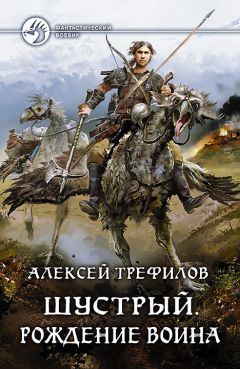– Нет.
Но он спит. Это точно. А она не спит.
И днем ей тоже неймется, звонит, бедненькая (со своей работы на его работу), и спрашивает: ну как? Может, не будем меняться? Может, не надо?
А у Ткачева на душе спокойно.
– Дружок, – говорит он жене, – ты, как мне кажется, думаешь, что ты в театре.
– Я?
– По-моему, ты слегка со сцены говоришь. И по сцене ходишь, а?
Это он ей отвечает, когда она звонит ему второй или третий раз подряд, – сколько же можно звонить? И добавляет:
– Ты в своих мучениях немножко того – перестаралась.
Жена обижена:
– Я думала, ты меня успокоишь.
– Вот я и успокаиваю.
Ткачев кладет трубку, топает на свое рабочее место и совершенно холодно продолжает составлять программу для машины. Делает дело, за которое ему платят. Работает.
А это часа два спустя. Ткачев уже оторвался от дела и думает о том, что вот ведь жена терзается, а он нет. Смешная она. Женщины обычно практичные. У них, у Ткачевых, появилась некая горстка денег, а у кого-то эта горстка растаяла – все так, все верно и объяснимо, но терзаться-то слишком зачем? Лет, скажем, через пять какой-нибудь таксист, не вполне очухавшийся после вытрезвителя, и какой-нибудь жизнерадостный частник сплющат металлическими боками машин его, Ткачева, на переходе улицы, и привет!.. Жена тут же выкинет белый флаг. И ветер будет трепать на этих же самых столбах белое объявленьице, в котором будет сообщаться, что его, Ткачева, жена очень хочет переехать из трех комнат в две. Вот так-то.
– Так что давай жить, пока живем, – говорит Ткачев жене в телефонную трубку.
Но оказывается, он трубку уже повесил. И говорит он эти слова вполголоса самому себе. Как та бормочущая старушенция на людной улице, которая идет, выставив клюв вперед, и докладывает вслух человечеству все, что она о нем думает. Смешно…
Ткачев встает. Он подходит к практичному Корочкину – тот курит.
– Вот ведь какая штука. Меняться-то мне придется с кем-то из пострадавших.
– Не обязательно, – возражает Корочкин.
– Вот и я говорю, – Ткачев ухватился за слово, – не обязательно!
– Случаи разные бывают.
– А жена моя, поверишь ли, вздумала терзаться этим заранее – хотя вроде бы она у меня не слишком сентиментальна. Нормальная женщина. Баба как баба.
Ткачев пробует рассмеяться при этих своих словах. И получается.
– Мою тоже под такое дело облапошили. Жалостливая, – сообщает Корочкин.
– Ка-ак?! (И даже здесь наслежено и натоптано, подумать только!)
А Корочкин понимает вырвавшийся вскрик как вопрос. И охотно объясняет, как облапошили его жену:
– Была у нас плитка кафельная. И в ванной. И в сортире… Дорогая, зараза.
– Знаю. У нас такая же.
– Вот-вот. А моя дуреха совсем раскисла и забыла с них спросить за плитку. А это, извини, семьдесят рубликов.
Ткачев чувствует, что его зацепило и резануло, потому что, если все это впервые, тебя и должно резануть. Но ничего. Пополам не перерезало.
– …Через полгода хватился: «Как так не взяла? За плитку не взяла?» Молчит. Только губы поджала… Пришлось мне к ним пойти. Хотя идти к людям за деньгами через полгода – это уже неудобно до чертиков.
– И пошел?
– А как же.
– И отдали?
– А как же… Не с первого слова. Конечно, отдали – поговорить пришлось.
А это первый телефонный звонок. Меж восемью и девятью, как и предлагалось в объявлении.
Жена к телефону в эту минуту ближе, а сам Ткачев на кухне – значения это, конечно, не имеет, но все же поясняет тот неприметный факт, что жена к телефону не подходит. И не подойдет. А дочери дома нет. И вот телефон заливается как оглашенный, а вдова или вдовец на том конце провода думают, что, может, эти типы, давшие объявление об обмене, как раз сейчас выходят из ванной, набрасывают на себя какую-нибудь тряпку и спешат к телефону, путаясь ногами в шлепанцах.
– Ткачев, – зовет жена.
И он идет, он не торопится. Телефон не умолкает, у меняющейся вдовы или там у вдовца отменные нервы. У Ткачева тоже.
– Это по обмену.
Мужской голос спрашивает о квартире – Ткачев отвечает. Затем спрашивает о предлагаемой квартире Ткачев, а тот отвечает. И все. И ничего больше.
– Пока.
– Пока.
Жена поднимает к Ткачеву лицо:
– Какой… какой был голос? (Робко и тихо.)
– Мужской.
– Нет. Не то… Какой он был?
– Отвратный.
– Как ты можешь! – чуть не вскрикивает жена (она все еще думает, что звонила непременно вдова или неутешный муж).
Ткачев улыбается. Он вдруг чувствует, что растет и прогрессирует в этом обменном ремесле. Потому что особенно чутко отмечаешь свой рост, когда кто-то (в данном случае его жена) топчется на месте и не растет. Женщина, думает он. Вся в эмоциях, где уж ей расти. Пусть топчется.
Ткачев на минуту задумывается и делает самому себе маленький выговор:
– Для первого раза я вел беседу неплохо. Но…
– Что? – словно просыпается жена.
– Понимаешь – я кое-что упустил. Надо было пригласить этого гундосого типа. Пусть бы осмотрел наши хоромы.
А это – первый, кто пришел смотреть. Старичок. Довольно мил. Но очень хочет денег. Во-первых, он хочет получить разницу в паях – это нормально и естественно. А во-вторых, он хочет доплату просто так. Доплату без причины. Такой вот он пришел и такой сидит.
Ткачев, конечно же, на время принимает эту игру, потому что, если игра для тебя новая, ты ее на время принимаешь, так уж они, новые игры, придуманы. И мы так придуманы.
– …А все же – почему я должен вам доплачивать?.. Я ведь не спорю. Я только интересуюсь, – говорит Ткачев.
– Почему доплачивать?
– Ну да, почему?
Старичок крутит громадную, довоенного образца козью ножку. Неспешно раскуривает ее. И поясняет:
– А как же, милый. Так уж водится.
– Не вы придумали?
– Не я, – смеется старичок добродушно.
Ткачев интересуется:
– Верю, что так водится, но в чем смысл?
– Ну как же. Ты ведь в три комнаты хочешь, значит, вверх идешь. К пирогу. Так или не так?
– Ну допустим.
– А раз к пирогу идешь – тебя малость и постричь можно, хе-хе-хе…
И старичок (он и впрямь мил и добродушен) выпускает громадный клуб ржавого дыма, отчего старичка становится еле видно. А жена Ткачева подает ему чай с айвовым вареньем. Вкусный чай. Жене очень нравится, что старичок не сраженный горем, не несчастненький, а даже как бы веселый.
– Спасибо, милая.
– Ой, что вы!
– За чаек спасибо. Хороший чай. Как для родственника завариваешь.
Ткачев продолжает расспросы:
– Значит, если я правильно понял, ты хочешь, папаша, денег задаром. Тяжело жить?
– Деньги нужны.
– Зачем?
– И-и, милый.
В разговоре старичок поддерживает любую тему, кроме этой.
А днем позже приходит она – она в темном. Хотя, скорее всего, это темно-синий костюм Аэрофлота.
Когда-то он был темно-синим, это точно, но сейчас он глядится как темный. Во-первых, потому, что тут уже хорошенько потрудилось время. И еще потому, что Ткачевы подспудно как-никак ожидали, что к ним придут и будут ходить по комнатам в темном, – вот и пришли.
На голове голубенькая пилотка с «орлом», и, когда она ее снимает (а она сняла ее сразу), оказывается, что пришла привлекательная блондинка в темном, чуть склонная к полноте. У Ткачева внутри что-то екает. Срабатывает. И он видит, что она поняла и отметила это. К тому же у нее оказывается имя, с которым так просто не исчезают с твоего горизонта, если ты мужчина и если горизонт твой сугубо научно-технический. А у Ткачева именно такой горизонт.
– Ангелина, – говорит она, протягивая руку.
Это тоже фиксируется. Ее рука.
– Вы вчера нам звонили? – уточняет Ткачев.
– Да.
– В самом начале девятого?
– Да. Как раз в восемь.
– Стюардесса?
– Угадали, – и она улыбается.
А что ж тут было угадывать.
Но угадал, в сущности, не Ткачев. А его жена. Ткачев же слегка ошалел – он водит женщину из комнаты в комнату, и рот у него ни на секунду не закрывается:
– …Это коридор, а это наш балкон, чтобы вам дышать воздухом и чтобы вспоминать родной «ТУ-104», а это наша комната, а это стенка с отличной слышимостью – чтобы стучать соседям по вторым и семнадцатым числам, когда они выясняют отношения, а это… – и так далее.
Ткачев вдруг перехватывает взгляд жены. Взгляд расшифровывается: прекращай треп, присмотрись к женщине, как же тебе не стыдно…
Если тебя одернули, не нужно много ума и много времени, чтобы сообразить, почему стюардесса ходит с темной косынкой на шее. Нужно только закрыть фонтан. И Ткачев его закрывает. Молчит.
Потом тихо спрашивает. Перестроившись:
– Муж был летчиком?
– Да.
– Разбился.
– Год назад.
Ее глаза часто моргают, стараясь сдержать слезу, и сдерживают.
Жена Ткачева уходит в другую комнату и там отчужденно, громко и шумно (нервничает) начинает шить. Дык-дык-дык-дык – стучит и дергается швейная машинка. И это как бы звуковой фон. Ткачев и женщина сидят и молчат, а машинка там делает то, что и должна делать. Возникает застывшая минута. Из тех, что запоминаются.