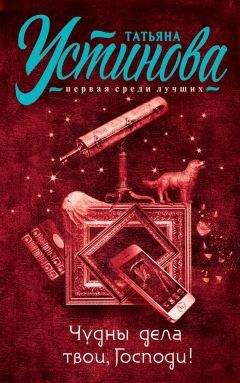Ознакомительная версия.
Многочисленная семья обедала за столом, когда раскрылась дверь и на пороге появилась сладкая парочка: Муля и Тася.
Тася – выше на полголовы. Гойка (не еврейка), это очевидно. Не голубых кровей, это тоже очевидно.
– Муля! – в тихом ужасе произнесла Мулина мама. – Кого ты привез?
Муля смутился и тоже посмотрел на Тасю: кого он привез?
Под ленинградским небом Тася действительно выглядела иначе, чем в степи под солнцем. Муля понял, что погорячился.
Вечером им постелили в пятнадцатиметровой спальне.
Вся семья пребывала в тихой оппозиции. Для Мули уже была приготовлена невеста, и не одна, а несколько, настоящие еврейские девушки: Роза, Фира и Белла. При чем тут Тася? За такие поступки лишают наследства. Муля чувствовал себя виноватым. Он почитал свою родню и не любил их огорчать.
Оставшись ночью наедине, он тихо обратился к молодой жене:
– Тася, я хочу с тобой поговорить.
– Говори. – Тася удивилась.
У них в Горловке, когда хотели говорить, сразу и говорили, не предупреждая и не договариваясь.
– Понимаешь… – Муля мялся. – Я должен идти в армию…
– И чего?
– Ты останешься здесь, одна, среди чужих людей…
– И чего?
– Может, ты поедешь на это время к себе домой? А я вернусь из армии и приеду за тобой.
– Ни, – сразу отрубила Тася.
– Почему?
– А с какими такими очами я возвернусь домой? Что люди скажут?
В Горловке была своя мораль, которая не допускала, чтобы девкой попользовались и выкинули обратно.
– Ни, – подытожила Тася.
Муля понял, что из-под Таси ему не вырваться. Он влип, завяз. Но в глубине души, в самой ее сердцевине, Муля был рад этому плену, потому что он желал Тасю, молодую и дикую, пахнущую полынью. А унылые правильные Роза и Фира наводили на него тоску. При этом у них обязательно что-то болело.
Муля вернулся из армии.
Он окончил политехнический институт. Работал в Ленэнерго. Получил от работы комнату на Лесном проспекте. Это была по тем временам окраина (как сейчас говорят, спальный район). Однако своя площадь, никто не вмешивается. Можно любить друг друга в любое время и ругаться тоже в любое время, что они и делали. И родили двоих детей подряд. Сначала мою сестру Ленку, потом через год меня. Тася еще не успела очухаться от первой беременности, а тут все по новой. Делать аборт боялась и старалась избавиться от меня собственными средствами: поднимала тяжести, садилась в кипяток, прыгала со шкафа. Но – тщетно. Я сидела внутри камеры, упираясь в стены руками и ногами. И меня невозможно было выставить за дверь. Я должна была родиться, и я родилась сразу с густой челкой, похожая на китайчонка. Веселая.
Когда я смотрю на свои детские фотографии – всегда в зрачках лампочка. Во мне с самого начала зажгли огонек, и он горел. И горит до сих пор, хотя, конечно, коптит изрядно.
Тася и Муля жили страстно, ругались и мирились, а порой даже дрались. Инициатором драки, как это ни странно, выступал Муля. Он просто не знал, как с Тасей совладать. Тася не понимала человеческого языка. Обычная логика была ей скучна и длительна. В Муле вскипала ярость, а это признак слабости. Муля был слабее Таси. Он это понимал, и она понимала.
В периоды затишья Тася вышивала. До сих пор сохранились ее скатерти с тончайшей вышивкой: белым по белому. Тася выдергивала из скатерти нитки и этими нитками вышивала цветы и колосья, заплетенные в венки. Казалось, что узор самостоятельно выступает из ткани. Было трудно себе представить, что эта красота сделана человеческими руками. Откуда у Таси из глубокого захолустья взялся этот дар? И этот вкус?
Тася вышивала занавески на окна, подушки на диван. Их жилье приобретало уют и неповторимость.
На праздники Тася дарила подушки еврейским родственникам. Там они не приживались на кожаных диванах.
«Невские» жалели Мулю, рассматривали его брак как мезальянс. Тасю они презирали, она это знала, а если не знала, то догадывалась и воспринимала спокойно. Соглашалась. Да, она не благородная, в отличие от «невских». Она должна у них учиться и до них дотягиваться. Хотя никакого особенного благородства у «невских» не было, обычная семья, переехавшая в Ленинград из белорусского местечка Заборье. Та же самая Горловка, с той разницей, что в Заборье не дрались и не выбивали друг другу зубы. Они молились своему богу и не работали по субботам. А в остальном та же нищета и желание из нее выбраться. Все люди всех национальностей хотят любви и богатства и боятся тюрьмы и смерти. Хотят и боятся одного и того же.
Самым ярким представителем семьи был старший брат Мули – Женя. Его настоящее имя – Хаим, но, когда он пошел получать паспорт, то мужик, работающий в паспортном столе, посоветовал:
– Поменяй имя. Потом мне спасибо скажешь.
– Как поменять? – не понял брат.
– Запишу тебя Евгений, хочешь?
– Почему Евгений?
– А какая тебе разница…
Хаим стал Евгением. Его дочери – Евгеньевны. Это было большое облегчение в антисемитской стране.
Дядя Женя оказался самым способным, самым ярким из четырех братьев, самым честолюбивым. Стал делать карьеру. И сделал. Получил должность директора завода металлоизделий. Должность давала большие возможности и широкое поле для приложения сил. Дядя Женя был хорошим директором. Не просто хорошим – выдающимся. Он любил людей. Всех. И всяких. Рабочие его боготворили.
Много позже, лет через тридцать, когда его хоронили, к раскрытому гробу протолкался рабочий и встал на колени.
Я думала, такое бывает только в литературе.
Дядя Женя был благодетель в прямом смысле этого слова: он любил делать благо. Это была его потребность.
В семье его тоже боготворили. Жене – лучший кусок. Женя отдыхает – все ходят на цыпочках. О Жене говорят с придыханием. Культ личности. (Надо добавить, прекрасной личности.)
А Муля – труба пониже и дым пожиже. Видимо, все запасы рода ушли на Женю, а Муле так… что осталось.
Муля – инженер в Ленэнерго. Мне очень нравилось сочетание мягких согласных, перемежающихся гласным «е». Как красиво и нежно это звучит: ин-же-нер-лен-э-нер-го. Этих инженеров в Ленэнерго – толпа. Но Тася гордилась. Она могла сравнивать Мулю только с Панько. Панько к тому времени уже сидел в тюрьме, у него была своя толпа.
Муля играл на скрипочке. Любил смотреть на огонь, задумавшись. Фанатично любил своих двух девочек: меня и сестру. Сестру он любил больше. Я росла дикая, наглая, своенравная, вылитая Тася.
А моя сестра – слепок с Мули. И смотрела так же: покорно и трогательно.
Вся эта жизнь была опущена в тридцать восьмой год – год рождения Высоцкого. «В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брели в этапы длинные. Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее, а вот живет же братия – моя честна компания».
Шли посадки и чистки. Мулю выгнали из партии за то, что он скрыл лавку своего отца. У отца в Заборье когда-то была лавка с нехитрым товаром: подковы, гвозди, молотки, топоры, грабли, лопаты. Муля утаил эту подробность. Его не посадили, но отобрали партийный билет.
Он вернулся с работы, сдерживая слезы, а дома разрыдался в полную силу.
Тася стояла и скептически смотрела на мужа.
– Ребенок бы умер, ты бы так не кричал, – заметила она.
– Перестань! – завопил Муля. Он не понимал, как можно допускать эти слова к губам.
Ребенок, безусловно, важнее партийного билета, однако детей можно нарожать целую дюжину, а партийный билет уже не вернуть. Партия… Это аналог религии. Сталин – богочеловек. Да что там – сам бог.
– Твой Сталин – говно, – спокойно объявляла Тася. – Ленин – да, а Сталин – говно.
У Мули перехватывало дыхание. Полный дом стукачей. Стены имеют уши. Их уничтожат.
– Тася… – шипел Муля. – Нас посадят, и дети сиротами останутся.
Тася беспечно махала рукой. Кому мы нужны?
Она была права в какой-то степени. Мулю и Тасю не тронули по одной простой причине: они были слишком мелкие гвоздики в государственной машине. Маленькие люди, ничего не значащие. Невозможно же было пересажать всю страну. Сажали тех, кто как-то возвышался, высовывался. А Муля и Тася – трава на лугу, две маленькие травинки. На них можно наступить, а можно пройти мимо.
Муля отделался партийным билетом и стаканом слез. Тася вообще не заметила. Вышивала.
Двое детей – большая нагрузка.
Взяли домработницу Настю. Ее привела соседка Шурка Александрова. Они с Настей были из одной деревни.
Когда я слышу: «Русские – великая нация», мне хочется спросить: «А китайцы не великая?» Но, когда я вспоминаю Настю, я соглашаюсь. Я глубоко киваю головой: да. Русские – великая нация, если она породила такую Настю.
В наш дом она пришла тридцатилетней и жила у нас до своих восьмидесяти, но я не заметила, чтобы она менялась. Всегда одинаковая, маленькая, нос картошкой, глазки – голубые и мелкие, как незабудки. Скорее всего, она была некрасивая, но мне казалась слепящей красавицей. От ее красоты жгло глаза.
Ознакомительная версия.