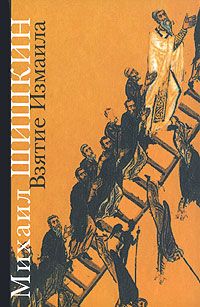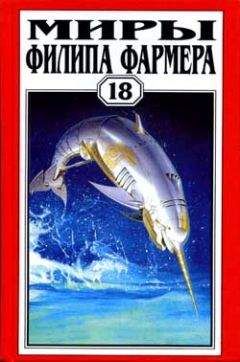Все делалось невыносимым. Простые предметы, как сговорившись, твердили об одном: вот алтын – он будет, когда меня уже не будет, вот дверная ручка, за нее будут браться, вот сосулька за окном, она и через триста лет будет сосулькой сверкать и переливаться на солнце в мартовский полдень.
И зеркало на рассвете из безобидного предмета вдруг стало тем, чем оно было на самом деле, – глоткой времени. Заглянешь в него всего через минуту – а оно уже эту минуту проглотило. И моей жизни на эту минуту стало меньше.
И еще угнетало, что все кругом так уверены в собственном существовании, а я сам себе иной раз кажусь нереальным и совсем не знаю себя. И если не уверен в себе, то как можно быть уверенным в остальном? Может, меня вообще нет. Может, меня кто-то придумал – как я придумывал человечков на корабле – и вот теперь мучает.
Я проваливался в черный омут без дна, я исчезал, переставал существовать. Мне для существования нужны были доказательства. Их не было. Зеркало отражало что-то, но обо мне оно, как, впрочем, и я сам, не имело никакого представления. Оно могло только глотать все без разбора.
Я ничем не мог заниматься, все, за что брался – и что в обычное время развлекало, доставляло радость, те же книги, – теперь не могло удержать меня на плаву, все покрывала, как жирным налетом, липкая бессмысленность.
И особенно раздражал слепой. Я лежу в своей комнатке, забившись в угол дивана, спрятавшись под подушку, и меня трясет мелкой дрожью от ужаса темноты и пустоты, а он, насвистывая, бодро шаркает по коридору, живет полной жизнью, которая, несмотря на слепоту, вовсе не кажется ему темной и пустой! Что он такое своими слепыми глазами видит, чего не вижу я? Какой такой невидимый мир?
Больше всего доставалось маме. Я запрусь в комнате и не выхожу, не ем, ни с кем не разговариваю.
Говорить с мамой было, конечно, бесполезно. Она считала, что у меня свойственные возрасту приступы . Я слышал, как она объясняла про меня своей подруге:
– Вот приступ живописи прошел, теперь приступ смысла жизни. Обойдется! Хорошо хоть, что еще никакая недотрога его не охмурила! Они теперь знаешь какие!
Девушек я боялся ужасно. Не боялся, но стеснялся до паники. Однажды ехал в трамвае, а передо мной села одна с удивительными волосами – целый ушат каштановых волнистых волос. И такие пахучие! Она время от времени их подбирала ладонями с краев и снова забрасывала за плечи. И так захотелось до этих волос дотронуться! Я увидел, что никто не смотрит, и потрогал их. Мне казалось, что незаметно. Но она заметила и насмешливо скосила на меня глаза. А я так смутился, что пулей вылетел из вагона.
После такого еще больше начинаешь себя презирать!
Сейчас смешно вспоминать, но мама так боялась за меня, что тайком обыскивала мои вещи – вдруг у меня яд припрятан или револьвер?
Однажды слышу шепот за дверью, умоляет своего слепого:
– Павлуша, поговори с ним, пожалуйста, ты же мужчина, вы скорее поймете друг друга!
Шаркает, стучится.
Я в ответ кричу:
– Отстаньте все!
Возьмешь книжку какого-нибудь мудреца-отшельника в надежде найти если не ответ, то хотя бы правильно поставленный вопрос, а все мудрецы-отшельники хором призывают жить настоящим, радоваться минутному, преходящему.
Но это же надо еще уметь!
Как радоваться настоящему, если оно ненужно и никчемно? И от всего тошнит – от обоев, от потолка, от занавесок, от города за окном, от всего этого не я. Тошнит от самого себя, такого же не я , как и все остальное. Тошнит от куцего, убогого прошлого, состоящего из глупостей и унижений. И особенно тошнит от будущего. Особенно от будущего – это ведь дорога в ту смрадную дырку в кладбищенской уборной.
А до этой дырки – зачем все? Что я сам выбрал? Плоть? Время? Место? Ничего я не выбирал, никуда меня не звали.
И вот когда становилось совсем плохо, когда действительно думал о том, что можно взять у слепого в ванной бритву, когда задыхался от невозможности прожить еще вдох, а потом выдох, а потом снова вдох и еще раз выдох, кожу покрывала испарина, сердце болело, меня бил озноб – вдруг где-то в кончиках пальцев начиналась удивительная вибрация.
Откуда-то из глубины поднималось нестройное, но уверенное гудение. Росло волной. Заставляло вскочить, бегать по комнате, отрывать с треском и клочьями створки окна, заклеенного на зиму, дышать улицей. Гудение нарастало, крепло, распирало. И наконец, необъяснимая сокрушительная волна, как горстью, подбирала меня с самого дна и выбрасывала на поверхность, к небу. Меня переполняли слова.
Сашенька, это нельзя объяснить, это можно только пережить.
Страх растворялся, улетучивался. Исчезнувший мир возвращался в себя. Невидимое становилось видимым.
Все это не я начинало отзываться, гудеть в ответ, признавать меня своим. Ты ведь понимаешь, о чем я? Все вокруг делалось моим, радостным, съедобным! Хотелось ощупать, внюхать в себя, попробовать на язык и обои, и потолок, и занавески, и город за окном! Не я делалось мной.
В те минуты я только и жил. Оглядывался кругом и не понимал, как без этого могут обходиться другие. Разве можно без этого жить?
А потом слова уходили, гудение исчезало, и снова начинались приступы пустоты, настоящие припадки – меня знобило, трясло, я валялся днями на своем диване и не выходил никуда – не мог себе объяснить: зачем нужно куда-то выходить? Кому нужно выходить? Что такое – выходить? Что такое – я? Что такое – что?
И самое страшное – а вдруг слова больше не придут?
В какой-то момент я остро ощутил связь: мерзлую вселенскую пустоту, из которой я не могу выкарабкаться, может заполнить только то чудесное гудение, шелест, рокот, прибой слов. Получалось, что ежеминутное, преходящее становится радостным и осмысленным только тогда, когда оно проходит сквозь слова. А без этого та радость от настоящего, к которой призывали меня мудрецы, просто невозможна. Все настоящее ничтожно, никчемно, если оно не ведет к словам и если слова не ведут к нему. Только слова как-то оправдывают существование сущего, придают смысл минутному, делают ненастоящее – настоящим, меня – мной.
Понимаешь, Сашенька, я жил в какой-то отчужденности от жизни. Между мной и миром оградой выросли буквы. На происходившее со мной я смотрел только с точки зрения слов – могу я это взять с собой туда, на страницу, или нет. Я знал теперь, что ответить давно сгнившим мудрецам: мимолетное обретает смысл, если поймать его на лету. Где вы, мудрецы, ау? Где видимый вами мир? Где ваше мимолетное? Не знаете? А я знаю.
Казалось, что мне открылась истина. Я вдруг почувствовал себя сильным. Не просто сильным, а всесильным. Да, Сашка, смейся надо мной – я ощутил себя всемогущим. Мне открылось то, что было закрыто для незнающих. Мне открылась сила слова. По крайней мере, тогда так казалось. Через меня замкнулась очень важная цепь, может быть, самая важная, которая шла от того реального человека, пусть потливого, с дурным запахом изо рта, левшой, правшой, мучимого изжогой, неважно, но такого же реального, как ты и я, который написал когда-то: «В начале было слово». И вот слова его остались, а он – в них, они стали его телом. И это единственное реальное бессмертие. Другого не бывает. Все остальное – там, в яме с кладбищенскими испражнениями.
Через слова протянулось от того человека ко мне то, что сильнее и жизни, и смерти, особенно если понять, что это одно и то же.
Представляешь, с каким удивлением я смотрел на окружающих. Как они могут быть? Почему они, не будучи подвешены на этой цепочке над смертью, не падают? Что их держит?
Для меня было очевидно, что древнейшее правещество – чернила.
Златоусты всех времен и народов уверяли, что письмо не знает смерти, и я им верил – ведь это единственное средство общения мертвых, живых и еще не родившихся.
Я был убежден, что мои слова – это то, что останется после того, как все сегодняшнее, мимолетное сбросят в выгребную яму на бабушкином кладбище, и потому написанное мной – это самая важная, самая главная часть меня.
Я верил, что слова – это мое тело, когда меня нет.
Наверно, нельзя так любить слова. Я любил их до одури. А они за моей спиной перемигивались.
Они надо мной смеялись!
Чем больше я перекладывал себя в слова, тем очевиднее становилось бессилие что-то словами выразить. Вернее, так – слова могут создать что-то свое, но ты не можешь стать словами. Слова – обманщики. Обещают взять с собой в плавание и потом уходят тайком на всех парусах, а ты остаешься на берегу.
А главное – настоящее ни в какие слова не влезает. От настоящего – немеешь. Все, что в жизни происходит важного, – выше слов.
В какой-то момент приходит понимание, что если то, что ты пережил, может быть передано словами, это значит, что ты ничего не пережил.
Я, наверно, очень путано все говорю, Сашенька, но все равно мне нужно выговориться. И знаю, что, как бы я ни путался, ты меня поймешь.