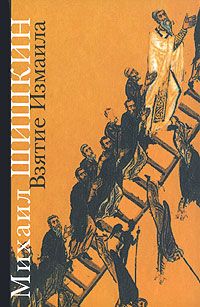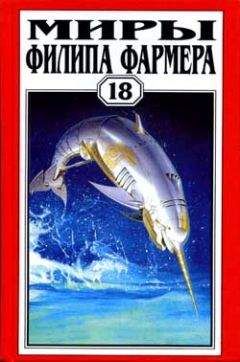В какой-то момент приходит понимание, что если то, что ты пережил, может быть передано словами, это значит, что ты ничего не пережил.
Я, наверно, очень путано все говорю, Сашенька, но все равно мне нужно выговориться. И знаю, что, как бы я ни путался, ты меня поймешь.
Я про тщетность слов. Если не чувствовать тщетности слов, то, значит, ты ничего в словах не понимаешь.
Попробую объяснить это вот так: помнишь, я писал тебе, что когда-то на переменке, начитавшись, как средневековые шуты изводят своих сеньоров-недоумков каверзными вопросами, я попробовал посмеяться таким же образом над моим мучителем из старшего класса, а тот, недослушав моей витиеватой фразы, привычно хлопнул меня по ушам. Так вот, златоусты с их упованием на продление себя во времени – это такие же глупые начитанные мальчики, как я, пытающиеся всю свою жизнь заговорить витиеватыми разговорами смерть, а она в конце концов, недослушав, все равно хлопнет их по ушам.
Помнишь, я никак не мог убедить тебя, что любая книга – ложь, уже хотя бы потому, что в ней есть начало и конец. Нечестно поставить последнюю точку, написать слово «конец» – и не умереть. Мне казалось, что слова – это высшая истина. А оказалось – какой-то фокус, мошенничество, ненастоящее, недостойное.
Я дал себе зарок больше ничего не писать. Мне казалось, что это достойно.
Сашенька, и никто ведь не объяснит, пока в каком-нибудь неподходящем месте само вдруг не откроется, что на вопрос кто я? ответа не существует, потому что нельзя знать ответ на этот вопрос, можно только быть им.
Понимаешь, мне захотелось быть.
Я не был собой. Слова приходили – и я чувствовал себя сильным, но я не мог им сказать – приходите! И они оставляли меня пустым, никчемным, использованным, выбрасывали на помойку.
Я ненавидел себя слабого и хотел быть сильным, но каким мне быть – за меня решали слова.
Сашенька, пойми, я больше так не мог! Ты все время думала, что дело в тебе, – нет!
Я должен был освободиться от них. Почувствовать себя свободным. Живым просто так. Я должен был доказать, что существую сам по себе, без слов. Мне нужны были доказательства моего бытия.
Я сжег все написанное – и не жалел об этом ни минуты. Ты ругала меня, но напрасно. Родная, не ругай меня, пожалуйста! Мне нужно было измениться, стать другим, понять то, что понимают все, кроме меня, и увидеть то, что видит каждый слепой!
Мне не дано умереть и родиться другим – у меня есть только эта жизнь. И я должен успеть стать настоящим.
И знаешь, что странно – те тетради давно превратились в пепел, но себя того, прошлого, я начинаю сжигать только здесь и сейчас.
Ты знаешь, это ведь я слепой был. Видел слова, а не сквозь слова. Это как смотреть на оконное стекло, а не на улицу. Все сущее и мимолетное отражает свет. Этот свет проходит через слова, как через стекло. Слова существуют, чтобы пропускать через себя свет.
Ты улыбнешься: конечно, вылитый я – дал слово ничего больше никогда не писать, а теперь думаю, что, когда вернусь, может быть, напишу книгу. А может, и не напишу. Неважно.
То, что я сейчас испытываю, – намного важнее сотен и тысяч слов. Скажи, как можно передать словами эту готовность к жизни, которая меня переполняет?
Сашенька моя! Еще никогда я не чувствовал себя таким живым!
Выглянул на минуту – лунная ночь, небо яркое, звездное и очень похожее на счастье. Прошелся, потирая уставшие пальцы.
Изумительная ночь. Такая луна – читать можно. Блеснула на штыках. Палатки светятся лунным светом.
Тишина замечательная, ни звука.
Нет, отовсюду звуки, но такие мирные, чудесные – лошадь цокнула, храп из соседней палатки, в лазарете кто-то зевнул, цикады на тополях стрекочут.
Стою и вглядываюсь в Млечный Путь. Теперь всегда сразу вижу, что он делит мироздание наискосок.
Стою под этим мирозданием, дышу и думаю: вот, просто луна, оказывается, может сделать человека счастливым. А я столько лет искал доказательств собственного бытия!
Какой я невозможный дурак, Сашка!
К черту луну! К черту доказательства!
Сашка моя родная! Какие еще нужны доказательства моего бытия, если я счастлив из-за того, что ты есть, и любишь меня, и читаешь сейчас эти строчки!
Знаю, что написанное письмо все равно как-то дойдет до тебя, а ненаписанное – исчезнет бесследно. Вот и пишу тебе, Сашенька моя!
♥
Иду вчера от остановки и уже издалека вижу ее – мне навстречу.
Перехожу на другую сторону – и она тоже.
Идет прямо на меня. Останавливаемся лицом к лицу.
Причесанная, ухоженная, выглядит намного моложе. Будто другая женщина. Волосы зачесаны наверх, уши видны – со сросшейся мочкой.
Молчит. Веко у нее вдруг начинает нервно трепетать.
Говорю ей:
– Добрый день, Ада Львовна!
Веко подергивается.
– Александра, мне надо с вами поговорить. С тобой. Ты должна меня выслушать. Мне надо рассказать.
А я ей:
– Не надо.
Не надо мне ничего рассказывать, Ада Львовна!
Я все знаю.
Муж объелся груш.
А за много лет до этого жена мужа думала: кому я такая нужна?
Когда набухло вокруг сосков, обрадовалась, а то уже вымахала и все еще ничего нет. Выглядела, как восьмилетняя гулливерша.
О Гулливере задумалась – как же он какал? И что бедные лилипуты делали со всем этим? Один раз пописал, и хватило на то, чтобы затушить целый пожар. Ведь в какие горы превращались ежеутренне все эти быки, коровы, бараны! Вдруг ощутила какую-то большую неправду, но не оттого, что не бывает таких больших людей.
Второй муж мамы – неудачник. Неудачники всегда женятся на вдове с ребенком.
Когда-то в далекой юности послал свою симфонию знаменитому композитору, а в ответ ничего. Потом на концерте узнал в новом произведении мастера свою музыку. С тех пор мстил человечеству ничегонеделанием. Подрабатывал аккомпаниатором в танцклассе, грел озябшие пальцы на батарее.
Читал вслух всегда из газет занимательные факты и любил цифры. Вот ведь за последние пять тысяч лет покончили с собой столько-то человек. И никто не знает точно, сколько. Но на самом-то деле такая цифра есть. Существует. Живет. Объективно и независимо. Так существовала когда-то до Колумба неоткрытая еще Америка. Если мы чего-то не знаем, не видим, не чувствуем, и не слышим, и не можем попробовать на язык, это не значит, что этого нет.
По статистике, самоубийство чаще всего происходит днем в два-три часа или вечером в одиннадцать-двенадцать.
Неудачнику казалось, что, женившись, поступил благородно, а в ответ – неблагодарность. Когда влюбился, говорил любимой:
– Я так счастлив, что ты появилась в моей жизни, ты – мое спасение.
А через много лет подумал:
– Разве женщина может быть спасением? Если плывешь – она помогает плыть, если тонешь – она лишь помогает утонуть.
Все ждала, когда мамин муж начнет смотреть на нее не по-отечески, а он так и не посмотрел.
Мать стучала целыми днями на машинке. Мозоли на пальцах, твердые подушечки. Завещания, доверенности, купчие, протоколы обыска, заверенные переводы. Каждый раз теряла работу, когда начальник, заглядывая в вырез блузки, оставлял после работы, запирал дверь на ключ, доставал бутылку вина, два бокала и уверял вкрадчиво:
– Я знаю, вы любите мужа, вам трудно, мог бы вам помочь.
Отказывалась от помощи, одним ловким движением вкручивая лист в каретку.
Стала брать работу на дом. Все время с головной болью, отупев от многочасового выстукивания. Ставила пишущую машинку на подушку. Лента истрепанная, в дырах. Копирка прострелена навылет. Высунулась в окно покурить, а звездное небо ей кажется использованной копиркой.
Сразу после смерти матери переехала жить, чтобы не оставаться в одной квартире с запившим неудачником, к бабушке с дедушкой.
Бабка ей на похоронах:
– Не порть горе – поплачь!
Говорили, что мать умерла от сердца. Слабое сердце не выдержало.
Только когда исполнилось шестнадцать, ей сказали, что мать покончила с собой. Показали предсмертное короткое письмо. Оно заканчивалось так: «Адочка, без настоящего горя душа не созреет. Человек растет на горе».
На самом деле мать умерла так: высыпала на ладонь остаток снотворных таблеток из флакончика – их никто не считал, но где-то такая цифра есть, существует, живет, – бросила их в кухонную ступку. Потолкла пестиком. Залила рябиновой настойкой. Получилась кашица. Размешала ложечкой. Еще подлила немного, чтобы стало пожиже. Перелила в стакан. Выпила залпом. Прислушалась к себе. Потом вытряхнула коробку с лекарствами на стол и стала глотать все подряд: просроченные сердечные и от изжоги, от астмы и от печени.
Мамин муж пришел поздно, увидел жену спящей и не стал будить. Удивился только, что легла, не раздеваясь.
Мама вовсе не хотела умирать, а хотела, чтобы ее спасли и любили.
Через три года написала открытку старикам: «Дорогие бабушка и дедушка! Я вышла замуж. Ада». Не написала, но подумала: «И не могу понять только одного – за что мне, мне, которая знает себя настоящую, изнутри, столько счастья?»