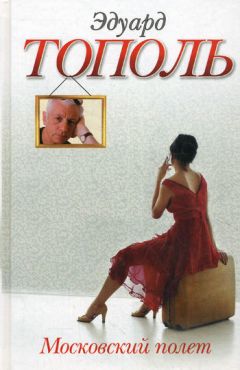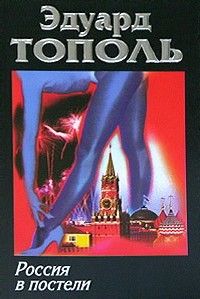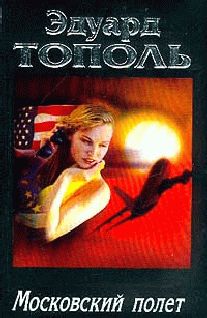Ознакомительная версия.
Правда, здесь меня обзывали жидом… И здесь, точно в таком же переулке, мальчишки поймали меня, шестилетнего, повалили на землю и намазали губы салом: «Ешь, жиденок, сало! Ешь!»… А вот тут, у метро «Сокол», в магазине «Овощи», в двухчасовой очереди за сливами я сделал замечание ленивой продавщице: «Почему вы все болтаете по телефону? Мы стоим уже два часа!» И вдруг вся очередь повернулась ко мне и закричала: «Тебе не нравится – поезжай в свой Израиль!»… И это здесь, в Москве, уничтожили мой лучший фильм… И здесь, в ОВИРе, когда я подал документы на эмиграцию, меня назвали предателем Родины…
И все же нет для меня места родней, думал я, глядя на проплывающие за окном темные улицы ночной Москвы. Я даже снова впал в патетику – что за свойство у этого воздуха и этой земли?
– Congratulations! You are home! – сказал полковник Лозински. – Чувствуешь что-нибудь?
Я пытался заставить себя уснуть. Я внушал себе, что должен выспаться, ведь завтра трудный день – брифинг у американского посла, интервью с генералом КГБ, встречи с друзьями и еще нужно найти какой-то интересный материал для японского журнала, который заплатил за мою поездку.
Но на соседней кровати храпел гигант Макгроу, а за окном была Москва. И я не мог уснуть. Да и можно ли приехать на родину, где не был ровно десять лет, и тут же уснуть? К тому же я только что больше часа просидел у телефона и, несмотря на полночь, обзвонил почти всех моих московских друзей. Правда, оказалось, что половина из них в командировках на Западе или на дачах по случаю выходных. Ведь с приходом Горбачева именно люди моего поколения пришли в СССР к власти, да и сам-то Горбачев старше меня всего на 8 лет. И теперь именно те, с кем я жил в студенческом общежитии и в поисках работы обивал пороги киностудий, стали министрами, руководителями киностудий, главными редакторами газет и депутатами советского парламента. Они обзавелись дачами, машинами, детьми и титулами. Конечно, те, кого я застал в эту ночь дома, тут же кричали в телефон: «Когда ты приехал? На сколько? Мы должны завтра же встретиться!» И я всем назначил на одно время – в четыре дня в ресторане возле Дома кино. А потом, лежа в постели, я все прокручивал в памяти оттенки их голосов, реплики, вопросы… И невольно думал: а если бы я не уехал тогда? если бы остался? кем бы я был сегодня в России?..
Так провертелся я в кровати час или полтора, а потом встал и подошел к окну.
Сизый московский рассвет чуть проступал на горизонте. Первый трамвай проклацал внизу, в темноте, мимо станции метро «ВДНХ». Слева взлетела к небу подсвеченная прожекторами гигантская пенисообразная титановая стрела памятника космонавтам, которую выстроил еще Хрущев, а московские таксисты прозвали «мечтой импотента». Прямо за станцией метро простиралась огромная, больше чем Центральный парк в Нью-Йорке, «потемкинская деревня» Выставки достижений народного хозяйства. Каждая республика и каждая отрасль сельского хозяйства имеют здесь свои выставочные павильоны, помпезные, как дворцы Шехерезады. Говорят, что Сталин сам дорисовывал башенки и колонны на проектах этих павильонов и собственной подписью утверждал монументы перед ними, включая бронзовую корову перед павильоном животноводства.
Но совсем не этот предутренний московский пейзаж заставил меня одеться и выйти из гостиницы. Справа от нее была не видимая из моего окна улица Довженко. Там, за желтым кирпичным забором, стояли павильоны Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, в которых я снимал свой первый фильм «Юнга торпедного катера». А за ними, на маленькой тихой улочке имени Эйзенштейна, располагался Всесоюзный государственный институт кинематографии – альма-матер всех советских киношников. И моя в том числе.
Я вышел из гостиницы, пересек трамвайные рельсы, миновал метро «ВДНХ» и прошел по сырому асфальту на север, к улице Эйзенштейна. Двадцать пять лет назад, после окончания киноинститута, я проделывал этот путь от ВГИКа до метро пешком почти каждый день, потому что в ту пору у меня часто не было денег на трамвай. И тогда я пешком обходил все московские киностудии, пытаясь соблазнить их своим сценарием «Зима бесконечна». Но даже в те времена хрущевской оттепели редакторы студий шарахались от этого сценария как черт от ладана. А точнее – как ангел от греха. Натасканным чутьем слуг Политбюро они уже тогда видели в этом сценарии то, что через 15 лет взбесило Павлаша, – правду. Вместе со мной слонялись тогда по студиям еще несколько молодых и голодных сценаристов и режиссеров, в том числе мой сокурсник Стасик Межевой со сценарием об алтайских раскольниках, Сема Шульман (муж легендарной советской кинозвезды Тани Самойловой) со своим эпохальным проектом «Ядерный век» о советско-американской гонке в создании атомной и водородной бомбы, Родик Тюрин с гениальным сценарием «Протопоп Аввакум» о первом русском религиозном диссиденте XVII века, Артур Пелишьян, чей студенческий фильм об Армении уже тогда собрал чуть ли не все международные призы. И Витя Мережко с тремя сценариями об украинском селе. В брюках, пузырящихся на коленях, держа под мышками папки со своими заветными сценариями, мы чуть не каждый день сталкивались в студийных коридорах и курилках, ревниво выясняя, кому, где, что сказали. Чаще всего студийные редакторши заявляли нам, что мы вообще не умеем писать по-русски. Обложив их крепким матом, мы скидывались последними пятаками и шли в буфет пить пиво. В ту пору в студийных буфетах еще продавали пиво, порой – даже чешское! А пропив последние пятаки, мы снова топали через всю Москву пешком: я, Стасик Межевой и Витя Мережко – в студенческую общагу ВГИКа, а другие – по своим московским квартирам.
Теперь я шел той же дорогой и думал: Господи, как разбежались наши пути! Стасик Межевой первый сошел с той волчьей тропы и стал редактором Госкино. Эпохальный проект «Ядерный век» нагло украл у Семы Шульмана один из знаменитых советских режиссеров, и Сема с горя разошелся тогда с Таней Самойловой, женился на какой-то иностранке и уехал из СССР в Австралию. Тюрин лет пять или шесть ходил в ореоле голодного гения и дошел до того, что согласился экранизировать «Целину» Брежнева. Знаменитого армянского художника, о котором мечтал сделать фильм Артур Пелишьян, убили гэбэшники, бездарно повторив сталинское убийство Михоэлса, – грузовиком влепили художника в стену; на этой почве Артур сам заболел манией преследования. А Витя Мережко, про которого редакторши чаще всего говорили, что он не умеет писать по-русски, стал самым кассовым советским драматургом. Мне же понадобилось сделать три компромиссных фильма, в которых реальная жизнь была упакована в глянцевую обложку социалистического реализма, чтобы усыпить бдительность редакторов и сделать свою «Бесконечную зиму». «Вадим! – говорили мне редакторы. – Как вы могли написать такую ужасную сцену: пятеро подростков пьют вино и играют в карты на деньги! Это же порочит нашу действительность! Нет, эту сцену нужно выбросить!» – «Но смотрите, у меня же написано: они играют в карты, а за ними по улице идет пионерский отряд с барабанами и знаменами! То есть плохих подростков всего пять, а хороших – сто! Даже не сто – двести!» – «Да? К-хм… Знаете что? Давайте так: мы вам разрешим оставить этот эпизод, если плохих подростков будет не пять, а три. Пять – это слишком много для одного города». – «А вы знаете, какова реальная статистика детской преступности в нашей стране?» – «Ну хорошо, Вадим, четыре. Договорились?»
Да, мне пришлось сделать три таких фильма, чтобы усыпить их бдительность и получить разрешение ставить «Зиму», за которую меня потом просто выбросили из кино…
– Эй! Скинемся на троих? – вдруг прервал мои воспоминания хриплый голос.
Прямо передо мной на влажном предрассветном асфальте стоял худой, тщедушный мужичок с дерзкими синими глазами, небритым круглым лицом и копной нечесаных пепельных волос. За ним, справа, у входа в магазин «Пиво – воды», толпилось человек сорок явных алкашей, терзающихся похмельной жаждой. Я хотел молча пройти мимо того мужика, но вдруг меня осенило, что надо же отметить встречу с родиной.
– А разве с утра продают водку? – спросил я, вспомнив горбачевскую антиалкогольную кампанию.
Он осмотрел меня с ног до головы, и что-то ему не понравилось во мне – не то мой иностранный вид, не то мой нос. Но молча повернулся и двинулся прочь. Но я остановил его:
– Подожди! Держи! – И протянул ему рубль.
Он посмотрел на рубль, потом на меня. Мой чистый русский язык убеждал его, что я свой, но этот рубль…
– Ты что? С Луны упал? – сказал он. – По рублику теперь на семерых скидываются!
Я вспомнил, что в целях борьбы с алкоголизмом Горбачев не только запретил продавать водку утром, но и втрое повысил цены на спиртное. Я вытащил из кармана тонкую пачку крохотных, как монопольные деньги, советских купюр, которые несколько часов назад получил в гостинице в обмен на двадцать долларов, и протянул мужику пятерку. Конечно, я мог дать ему и десятку, но я уже перевел свои мозги на путь его мышления и не хотел выглядеть перед ним полным идиотом.
Ознакомительная версия.