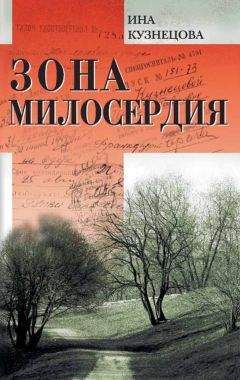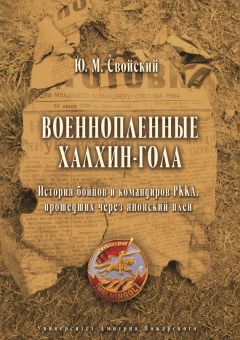Ознакомительная версия.
Я не чувствовала раздражения к коллегам. Думаю, никто из них не горел желанием занять этот трудный и ответственный пост. Я никому «не перебегала дорогу». Но мысль, что они попадают под власть девчонки, задевала самолюбие. Никто против меня открыто не выступил. А недовольны были все.
Я решила, что именно здесь находится самая подходящая мишень для моей атаки.
Итак, я вступила в бой.
С нарочным, официально, я разослала всем врачам приглашение: собраться на совещание в кабинет заместителя начальника по лечебной части в 4 часа дня.
Пришли все. Без опоздания. Мрачные, неразговорчивые.
Я не приготовила никакого текста. Ничего специально не придумала. Мне казалось, что для данного случая более подходит эмоциональный тон человеческого общения. Упаси Господь допустить начальственную ноту. А от меня, как я потом узнала, ждали именно этой «новой метлы» с новыми идеями.
Я волновалась, под ложечкой мучительно сосало.
Наконец, все расселись. Молча, ощетинившись.
Я нарочно не села в кресло Пустынского, а заняла свободный стул за общим столом, вместе с врачами.
Мое обращение было эмоциональным, может сверх меры.
Вкратце стержневая мысль состояла в следующем:
– Два года назад ваш коллектив по-доброму, с открытой душой принял меня, юную вчерашнюю студентку. Вы окружили меня вниманием и помогли не потерять себя в новых условиях, многому научили. Очень скоро я стала «своей» среди вас. Мою роль заведующей отделением вы приняли с меньшим энтузиазмом, но наша активная дружба победила. А ваша поддержка в новых, трудных условиях оказалась еще более ощутимой. Мою дружескую симпатию, полагаю, неизменно чувствует каждый из вас. Волею судьбы я опять стою на еще более ответственном этапе, о котором даже страшно подумать. Я согласилась на настойчивое предложение Виктора Федосеевича только потому, что была уверена: весь коллектив, как и раньше, не только поддержит меня, но и непременно поможет. Очень хорошо понимаю, что я – не эквивалент Пустынскому. До него мне далеко, как до звезды. Но я твердо знаю, что если мы, как всегда, будем вместе, то не уроним чести нашего любимого Сергея Дмитриевича, а продолжим его дело.
Вот в таком ключе я обратилась к собравшейся аудитории.
Слушали внимательно.
Уже с первых слов я поняла, что выбрала правильный тон. Чувствовала: постепенно меняется настроение слушающих. Подобного они не ожидали и были застигнуты врасплох. Я поняла, что они не только слушают, но и слышат. Их реакция воодушевила меня. В голосе появилась привычная звонкость.
Они поняли и поверили мне. Из кабинета Пустынского, из моего теперешнего кабинета, выходили уже другие люди. Настроенные вполне дружелюбно.
Забегая вперед, с удовлетворением скажу: целый год проработала я на этом ответственном посту. Были сложные и очень сложные ситуации. Но ни разу на карту не ставились наши добрые отношения.
Вольфганг Гете сказал: «Жизнь измеряется не годами, а полнотой ощущений».
Последний год моего пребывания в госпитале по полноте ощущений сродни десятилетию. Но если говорить о временном восприятии, он, оцененный сегодня в обратной перспективе, промелькнул как блистательный метеор. Вереница мчащихся, заполненных до отказа дней ни на минуту не прекращала своего стремительного движения. Разделяющие их короткие ночи не успевали прервать нить бегущих ощущений. Наступал рассвет, и начинался новый день.
Нетерпеливое стремление сразу охватить все словно бросило меня на амбразуру. От полного краха с первых шагов меня спас абсолютный порядок, заведенный железной волей Елатомцева. С этого порядка я и начала свои первые робкие шаги большого начальника. Но жизнь не стоит на месте – рождались новые вопросы, требовались нестандартные решения. С ними взрослела и я, глубже вживаясь в новую роль.
Наиболее актуальной и трудно решаемой проблемой того периода была катастрофическая перегрузка коечного фонда. Лагерь категорически отказывался принимать обратно выздоровевших пожилых больных и хроников. Их ведь нельзя немедленно отправить в забой, а некоторые навсегда утратили трудоспособность. Их было немало. Они оставались в отделениях, постепенно снижая общий коечный фонд каждого корпуса.
Мы информировали высокое начальство, объясняли, просили, требовали. Переписка занимала кучу времени и сил. Но кругом были глухие – нас не слышали. А между тем туберкулезное отделение было вдвойне перегружено только остаточными больными.
Помимо таких, как принято сегодня говорить, глобальных задач, ежедневно вырастали более мелкие. С утра в кабинете возникает высокая фигура заведующего аптекой, очаровательного интеллигентного Василия Петровича: в ведомственном аптекоуправлении появился эффективный витамин для дистрофиков – надо заказать. Затем важно вплывает величественная Анастасия Ивановна: у них с доктором Лиин заканчивается материал для протезирования зубов. Начальнице одного из терапевтических отделений необходимо срочно созвать консилиум – отяжелел больной. Вдруг словно из-под земли вырастает старшая сестра моего отделения Зина Суворина.
– А вы скоро к нам придете? Доктор Шефер хочет с вами согласовать список операций на неделю.
Я пишу отношения, заявки в аптекоуправление, в медицинские магазины, участвую в консилиуме, по дороге смотрю тяжелых больных, подписываю список операций на неделю, перехожу из корпуса в корпус. После обеда оказывается, что захворал дежурный врач – нужно срочно найти замену. А уже совсем к вечеру по телефону сообщают из лагеря, что завтра прибудет внеочередная партия больных.
И так каждый день. И, слава Богу, это все в обычном режиме, без каких-либо эксцессов и происшествий.
Елатомцев с самого начала настаивал, что совмещать две должности – невозможно. Наконец в этом убедилась и я. Пришлось отказаться от заведывания отделением. Его приняла недавно поступившая к нам врач средних лет – жительница Скопина, где она много лет проработала в хирургическом стационаре местной больницы.
Мне было жаль расставаться с лечебной работой, с моими больными, с хирургией, с 14-м корпусом, который я успела полюбить.
Между тем течение монотонно нагруженных дней время от времени нарушалось.
Я завела правило: ежедневно побывать в каждом лечебном корпусе. Без расписания и предупреждения – мол, ждите всегда. Не для контроля. А так, просто взглянуть.
Обед подходил к концу. Вхожу в терапевтическое отделение. В одной палате шум голосов. Их перекрывает резкий крик по-немецки. Узнаю голос Шута.
Давно собиралась приструнить этого наглого притеснителя рабочих 10-го корпуса. В нем он старший. К больным же ходить ему запрещено.
Теперь он попался с поличным.
Открыв дверь, я остановилась на пороге: несколько человек, сгрудившихся у кровати больного, замерли. Наступила тишина.
Секунда ступора – не ждали.
Обращаясь прямо к Шута, я спокойно сказала:
– Я запретила вам бывать в 14-ом корпусе. Теперь я категорически запрещаю вам переступать порог любого клинического отделения. Первое нарушение – и я вас отправлю в лагерь. А сейчас немедленно убирайтесь отсюда, – добавила я по-немецки.
Угроза отправки в лагерь – скорее дань эмоциям.
Я хорошо знала, что Клюсову он нужен, все врачи мне доказывали, что нуждаются в нем как в переводчике. Замены для них у меня не было. Втягивать в эту «мышиную возню» Елатомцева мне не хотелось. Сам Шута прекрасно понимал эту ситуацию. Но меня все же сильно боялся. Заходя в клинические корпуса, выставлял охрану, на случай моего появления в Зоне. Сегодня, видимо, не успел.
Инцидент оказался нелепым. Пожилой больной в громоздкой гипсовой повязке, неуклюже с трудом поворачиваясь в постели, разорвал простыню, испугался, хотел что-то поправить и вырвал из нее большой клок. Он сильно разволновался, пытаясь все объяснить возмущенной санитарке. Ничего не понимая, она стала кричать. Кто-то из больных привел Шута. Последний стал орать на больного еще громче, чем санитарка. В этот момент появилась я.
Досталось всем. Оправдываясь, санитарка пыталась мне объяснить, что больной своей неуклюжей гипсовой повязкой разрывает уже третью простыню.
На провинившегося страшно было смотреть. От волнения он не мог выговорить ни слова. А когда немного успокоился, сказал, что ему очень стыдно, он глубоко чувствует свою вину, понимает, что она велика, но все это произошло нечаянно. Просил прощения. Несмотря на мои уговоры, не мог остановиться и опять просил прощения.
И, самое мучительное, в качестве оправдания вдруг сказал – словно это был последний аргумент самозащиты:
– У меня три сына погибли на фронте, жена с дочерью и внуком попали под бомбардировку, а я вот уже четыре года – по лагерям. И заплакал.
Я перевела его слова сестре и санитарке.
– И тебе не стыдно? – спросила я ее. Она промолчала, доставая из кармана носовой платок. Больного успокоили, поменяли белье и уложили.
Ознакомительная версия.