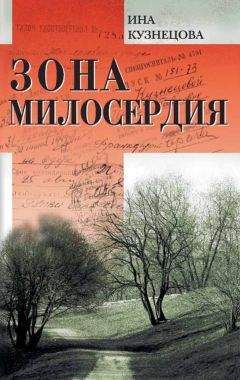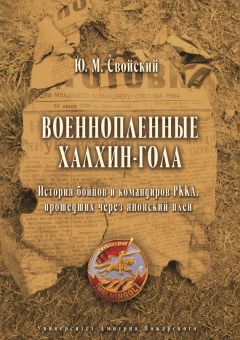Ознакомительная версия.
– И тебе не стыдно? – спросила я ее. Она промолчала, доставая из кармана носовой платок. Больного успокоили, поменяли белье и уложили.
Исчерпанный инцидент! А сколько их на каждом шагу?
Однажды в конце рабочего дня ко мне в кабинет входит Виктор Федосеевич. Приветливый, настроение хорошее. Спросил как дела. Все было в порядке. Удобно расположился в кресле. Рассказал смешную историю времен войны. Вспоминал подробности. Весело смеялся. Такие минуты были редкостью.
Воспользовавшись этим, я очень спокойно, как нечто само собой разумеющееся, напомнила, что до окончания срока институтской отработки у меня осталось чуть меньше года.
Боже мой! Веселое настроение исчезло мгновенно. Лицо приняло знакомое жесткое выражение. И тоном, каким суровый начальник в момент крайнего раздражения разговаривает со своим нерадивым подчиненным, он заявил:
– Ты что же полагала, что я сделал тебя своим заместителем всего на один год? Откуда такая наивность? Запомни, ты уйдешь из госпиталя вместе со мной, при его расформировании. А это, думаю, наступит не скоро. Имей в виду: разговоров на эту тему я больше никогда слышать не желаю. Дверь за ним захлопнулась несколько громче, чем следовало.
Сейчас в это трудно поверить, но по тогдашним законам он имел полное право не отпустить меня. И никаких путей борьбы с этим – ни прямых, ни обходных – не существовало. Так что в тот момент моя участь была решена на многие годы вперед.
Написать об этом разговоре маме было невозможно. Мама считала уже не месяцы, а дни до моего возвращения домой.
Сама я погрустила и успокоилась.
Фаталисткой я была с раннего детства.
Кончалась зима дружно и очень солнечно. В Зоне хозяйственная бригада и выздоравливающие больные охотно и весело помогали таянию последнего снега. Его уже почти не осталось, когда внезапно закружившаяся ночью метель обрушила на госпиталь тонны белого пуха, густо прикрывшего все вокруг. Утром, в серых полусумерках, еще кружились последние снежинки, а голубоватые сугробы превратили мир в сказку.
В Зоне уже опять кипела работа. Ловко орудуя метлами, лопатами, скребками, люди радостно освобождали дорогу весне.
В новой должности я регулярно перед утренней конференцией заходила в Зону. Завидев меня, все по обыкновению выстраивались в ряд и дружно кланялись. Так было и теперь. Сначала мне показалось, что всеобщее, какое-то особенное возбуждение связано с уборкой этого красивого, пушистого снега. Но очень уж оно было необычным: больные смеялись, перебрасывались репликами, о чем-то спорили. Их лица были возбуждены.
И вдруг я уловила кем-то произнесенное слово «репатриация». Странно, подумала я, откуда взялось это слово?
В то же утро, после окончания конференции, как обычно разбирая почту, я обнаружила большой типовой конверт из нашего Центра. В нем лежало извещение о начавшейся в стране репатриации военнопленных.
Так вот оно что! Но откуда они это узнали?
Там же имелся отдельный приказ, касающийся нашего района, с инструкцией для всего мероприятия в целом, а также для отдельных лагерей.
Наш госпиталь отдельной строкой включался в сферу общего действия.
Мысль о том, что военнопленные узнали об этом сообщении раньше нас, не покидала меня. Откуда? Ответа на этот вопрос не было.
В середине дня Елатомцеву позвонили из лагеря – к ним это сообщение пришло вчера вечером.
Итак, в лагере эти сведения были получены еще вчера вечером. Вопрос несколько сузился, но остался неразрешенным: как же за ночь эта новость попала в госпиталь? История повторялась, в прошлый раз мы так и не нашли ответа, каким путем возникший в лагере голодный бунт перебросился в госпиталь? Сегодня, как и тогда, ответа на него нет.
Весь остаток дня, собравшись в кабинете начальника, мы подробно изучали приказ. Он был ориентирован на лагерный контингент. Наш госпиталь в общий список попал, видимо, случайно. Следствием этого оказалось: во-первых, нам дали в эшелоне очень мало мест – мы сможем отправить лишь одну треть из вполне подходящих к репатриации больных. Во-вторых, медицинские критерии отбора больных в документах даны в самом общем виде: «Хроники, которых нельзя использовать на тяжелых работах».
Наших больных, нельзя использовать вообще ни на каких работах. Еще в приказе указывалось, что резко ослабленных и истощенных включать в список не следует. И что вагоны по составу репатриированных будут усреднены, т. е. госпитальные больные поедут вместе с лагерными военнопленными.
Все это требовало доработки отдельных пунктов приказа, с ориентацией на особенность наших больных. Для утверждения этих пунктов и разъяснения к ним мы проводили повторные консультации и согласования с членами Центральной комиссии по репатриации (ЦКР). А вопросы все рождались и требовали новых консультаций.
При отборе больных помимо чисто медицинских большое значение имели и критерии социально-политические. К ним мы отношения не имели. По этим критериям больные в поданных нами списках проверялись специальными, компетентными органами. Но один пункт требовал нашего участия. В список репатриируемых больных запрещалось включать служивших в войсках СС.
Они были легко узнаваемы. У каждого из личного состава войск СС, от генерала до солдата, на коже переднего отдела левой подмышечной впадины была вытатуирована группа его крови. Так, на всю оставшуюся жизнь, Гитлер обессмертил свою любовь к этому роду войск. Фюрер ушел, а люди, спасая свою жизнь, придумывали всяческие способы извести признаки былой любви: вырезали хирургически и кустарно, выжигали огнем, вытравляли различными снадобьями. Все было напрасно – любая метка, рубчик, царапина, шероховатость, узелок, нарушение пигментации кожи в этой зоне – все являлось абсолютным приговором и обсуждению не подлежало. Полноценную метку – четко различимые символы АВ IV – я встретила всего у одного больного.
Кое-какие изменения кожи в этой зоне иногда попадались. Носители их неизменно клялись, божились, объясняли тысячей причин их происхождение. Для официальных служб все было напрасным.
А чисто по-человечески некоторым мне хотелось поверить. Особенно одному, очень симпатичному, уже не очень молодому человеку.
Он уверял, что в 14-летнем возрасте его укусила лошадь. И действительно: совсем нетипичный своеобразный «двухэтажный» рубчик в этой области очень походил на отпечаток прикуса. Мы много разговаривали, я ему поверила. Но его судьбы это не изменило.
Планируемый эшелон шел издалека, по дороге забирая репатриантов. Конечным пунктом его формирования были ближайший лагерь и наш госпиталь. Ориентировочный срок отправки эшелона – вторая половина мая. Все документы на больных в окончательном виде должны были быть поданы не позднее 31 марта. Времени оставалось очень мало.
Работа была непривычной, поэтому и казалась очень трудной. На какой-то определенный отрезок времени вся жизнь госпиталя была целиком подчинена этой работе.
А что происходило с больными?
Психологический климат Зоны резко изменился. Плохо скрываемое возбуждение нарастало. Их словно подменили.
Обычно молчаливые, сосредоточенные, лежа на своих койках либо встречаясь в коридоре или на прогулке, они обменивались приветствиями, односложными репликами о самочувствии, погоде, получаемом лечении. В палатах никогда не было шума, который возникает, когда люди что-то обсуждают или спорят. Почти никогда не слышалось смеха, даже простой шутки. Мне не приходилось слышать их разговоров друг с другом о прошлом, о доме, о жизни до войны, о самой войне, о военных эпизодах.
Они словно похоронили свое прошлое, никакой болтовни о нем. Все, что относилось к довоенной жизни: близкие, дорогие люди, события, собственные мечты, чаяния, радующие сердце воспоминания – все было спрятано глубоко. Не от посторонних глаз, а от самих себя – так было легче.
Нет! Не легче – иначе просто невозможно переносить каждый день.
Похожие друг на друга дни рождали спасительную для сознания привычку: так есть, так будет всегда, бесконечно, до самого конца.
Иногда взбунтовавшийся разум кричал: наступят же когда-нибудь другие времена, не может же так длиться вечно?!
Почему, может, – спокойно убеждала серая, безрадостная действительность.
И жизнь снова шла своим привычным чередом. А рядом инстинкт самосохранения жестко вел свою линию. И чтобы физически уцелеть, был один реальный способ: надо было забыть прошлое, не строить планов, не надеяться.
И вдруг, нежданно-негаданно упало это спасительное слово – «репатриация!»
Его услышали все. Это не было фантазией, выдумкой, сном.
Слово звучало все громче, все настойчивее. Не верить было невозможно. И души распахнулись навстречу этому волшебному слову.
Пока больные «веря – не веря» вживались в новую действительность, мы, с головой уйдя в работу, готовили их отъезд.
Полностью включилась в дело специально созданная отборочная комиссия. Исходя из общего числа предоставленных нам в эшелоне мест, мы определили квоту для каждого отделения. И приступили к персональному отбору больных.
Ознакомительная версия.