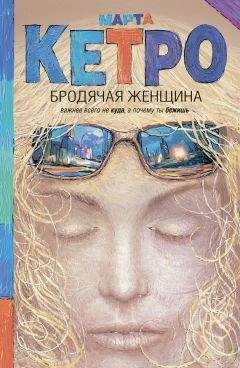Неожиданно абсент закончился.
Катенька вздохнула и вынула из холодильника игристое вино.
– Катенька, мы умрём.
– Умрём, – бодро ответила она, – но завтра. Тащи бокалы.
Потом белая пена подняла их над столом и перенесла в постель, они ничего не могли делать, только лежали, держась за руки, и покачивались на шипучих волнах.
– Катенька, я хотел сказать…
– Молчи, ладно? Плыви.
Сигнал будильника не был беспощадным, он звучал нежно и вкрадчиво, но беспощадной оказалась остальная реальность. Плохо было всё. Даже не говоря о головной боли, глаза не открывались, да и не стоило сейчас смотреть друг на друга, дышать они просто боялись, а губами шевелили с особенной аккуратностью. Прощание вышло скомканным, и через четыре часа Катенька уже отстёгивала ремень – самолёт набрал высоту, и можно было сбежать в туалет, ополоснуть лицо холодной водой.
Вечером они встретились в скайпе. Катенька посмотрела на измученную физиономию Майкла и, не удержавшись, фыркнула. А он всего лишь задал ей два вопроса: «Катя, что это было и зачем?»
– Считай, это был коктейль «Русская любовница».
– ???
– Сидеть всю ночь на кухне, разговаривать, смертельно напиваться, зная, что кончится плохо, никакого секса и ад утром – это очень-очень по-русски.
– Но зачем, Катенька?
– Знаешь… Я не хотела плакать напоследок. И у нас были другие проблемы, кроме разбитых сердец, правда?
Он пожал плечами и попрощался. В следующий раз Майкл появился в скайпе нескоро, а потом и вовсе пропал, и Катенька так и не узнала, что он хотел ей сказать тогда, в ночь святого Валентина, когда их укачивали высокие белые волны.
«Возмутительный случай вандализма: сегодня ночью неизвестные проникли в здание Чердаковского краеведческого музея и похитили ряд экспонатов, в частности, знамя 28-го отдельного мотострелкового батальона, которое находилось в музее на вечном хранении. Именно под этим знаменем летом 42-го года произошёл легендарный бой на Чердаковской высотке, в котором погибла большая часть личного состава. Ведётся расследование».
Газета «Родные просторы»,19 июля 2002 года* * *
Витька с Федькой походили друг на друга мало, хотя отцы их были близнецами, одинаковыми, как половинки яблока. Но материнские крови разбавили густой филипповский замес, и Виктор Антоныч уродился высоким и светловолосым, а Фёдор Василич – мелким да смуглым. И по характеру они сильно разнились: Витька всегда был тяжеловесным книжником, который медленно раскачивается, да сильно бьёт, а Федька отличался весёлым и суетливым нравом. Смех один был, когда они по улице шли: Большой выступает неспешно и по слову в час бросает, а Малой успевает вокруг три круга нарезать, вперёд забежать и вернуться, рта притом не закрывая ни на минуту. И в детстве они такие были, и в старости, весь городок их знал, потому что жили они тут с рождения, отлучившись только в эвакуацию, потом в армию и на учёбу.
Умом их Бог тоже разным наградил: Витька в инженеры выбился, а Федька так и остался простым слесарем, хотя поначалу рванул за братцем в институт поступать. Но на экзамене его быстро обломали, сказали, тебе бы на актёрский надо, паря, а так вон в шарагу иди, осваивай честную рабочую профессию.
Женились они в один год, а девок таких выбрали, что опять весь город насмешили: вам бы поменяться, ребята. Витька взял маленькую быстроногую Шурочку, а Федька – степенную Антонину, на полголовы его выше. На том их дорожки и стали расходиться: женились-то чуть ни на спор, Большой – по сильной любви, а Малой – за компанию, взял первую, на какую взгляд упал, – тогда любая была согласная, женихов-то война выкосила. Но по подлому закону Витькино счастье через пять лет закончилось, убежала Шурочка на маленьких своих ножках с заезжим артистом оригинального жанра и годовалую дочку с собой прихватила, а Тоня так и прожила жизнь с блудливым своим муженьком, и померла на седьмом десятке то ли от сердца, то ли от накопившейся женской обиды. Сын их единственный, приехавший из столицы на похороны, после поминок плюнул отцу под ноги и зарёкся впредь ездить к нему, козлу старому, который изменами мать в могилу свёл.
И снова сравнялись братья, оба остались одиночками, Витька-то и не женился потом, после Шурочки, а Федька хоть без бабьего внимания не остался, но от ЗАГСа бегал, как от чумы. Когда стало им за семьдесят, съехались в двухкомнатную Федькину квартирку, в которой поддерживали какой-никакой порядок приходящие женщины, а холостяцкую Витькину однушку на первом этаже, зато на главной улице, сдали под офис торгашам каким-то. Да пенсии у обоих, да надбавки. Так и жили. Бодрые, дружные и почти всегда трезвые.
И никто не знал, что у занятных стариканов есть тайна, которая десятилетиями глодала их сердца: оба они были дезертирами.
* * *
Когда началась война, им было по пятнадцать. Федька весенний, Витька по осени родился, и оба они знали, что в сорок четвёртом предстоит им пойти вслед за отцами, которых призвали в первые же военные дни. Конечно, тогда все верили, что победа совсем скоро, и пацаны всерьёз переживали, что на их долю славы не достанется. Но потом поняли, что всем хватит и наград, и пуль: фронт стал подступать к Чердаковску уже в начале сорок второго, и гражданское население эвакуировали в Ташкент. Туда и пришла весть, что отцы их, Антон и Василий Филипповы, пали смертью храбрых на той самой Чердаковской высотке, на которой всё детство строили схороны, выкурили свою первую папироску, а в юности впервые поцеловались с девками. Фашисты заняли холм и с удобством обстреливали город, пока бойцы 28-го батальона не выбили их оттуда ценою собственных жизней.
Это как в кино было, замедленно и страшно. Федькина мать увидела, что почтальонша подъехала к воротам, бросила в ящик два квадратных конверта и умчалась на своём ржавом велике так, будто сама смерть за ней гналась. И Витька потом до конца дней помнил, как тёть Катя медленно, будто на верёвке её тянут, идёт к калитке, забирает конверты и несёт в дом. И как начинает кричать мама, всхлипывает Федька, по-детски плачет сердобольная квартирная хозяйка, и как бабка молчит. Она долго молчала, железная их бабка Настасья, а потом встала и пошла в комнату. Позвала их всех с порога, а на хозяйку цыкнула. Закрыла дверь, достала из угла жестяную коробку в красных маках, где хранились их семейные документы. Сложила туда похоронки, но не убрала, а вынула со дна метрики – Федькину и Витькину. Поглядела внимательно и спросила ручку. Три штуки расписала на бумажке, выбрала одну и твёрдой рукой исправила цифры – две шестёрки на две восьмёрки и бритовкой подчистила.
– Чего ты, бабенька, – испугался Витька.
– А ничего, – ответила она, – не отдам я ей вас.
– Кому? – не понял он.
– Ей. Не спрашивай.
И никто не посмел ослушаться. Так и стали они четырнадцатилетними, и когда на учёт пошли становиться в местный военкомат, никто подлога не заметил, железная рука была у бабки Настасьи. Выдать их некому, эвакуированных чердаковцев разметало по стране, а по возвращении выживший народ и не помнил, кому там сколько лет. В армию пацаны пошли уже в мирном сорок шестом, отслужили с честью, и никто, кроме них, не знал, что никакие они не отличники воинской подготовки, а уклонисты, дезертиры и крысы позорные.
И стыд их глодал, и зависть. Потому что их поколение разделил огненный рубеж: по одну сторону остались они, малолетки, не нюхнувшие пороха, а по другую были точно такие же парни, но с наградами, с боевым опытом и с такой тяжестью в глазах, будто они на целую жизнь старше. Только мало их вернулось, до невозможности мало. Им и почёт был, и льготы, и зелёный свет везде, но не тому завидовали братья, а что совесть у них чистая, ночами спать не мешает. Солдатам мешало спать другое – кошмары, от которых они просыпались в поту, нескончаемые взрывы в голове, лица мёртвых товарищей и мёртвых врагов, но об этом кто же знал из тех, которые в тылу отсиделись. Федька с Витькой только их славу видели и свой позор. И когда перед ними закрывались двери, когда обходили с новым назначением или квартирой в пользу фронтовиков, они только кивали покорно. Оттого их считали честными бессребрениками, уважали и тоже продвигали потихоньку, только не было им радости на веки вечные, зачеркнула им бабка жизни, когда двадцать шестой на двадцать восьмой исправила.
Перед смертью она позвала их, глянула и говорит:
– Ничего. Ничего. Зато живые. Хватило с неё Антохи с Васенкой, – и глаза закрыла.
В июле две тысячи второго Чердаковск изготовился праздновать шестьдесят лет с той великой битвы, где полегло столько народу, в том числе и двое жителей города, братья Филипповы, чьи фотографии висели в музее. Школа носила их имена, а их сыновей приглашали на Девятое мая выступать перед детьми. Они отбивались каждый раз – да не ветераны мы, по возрасту не прошли, но директриса всегда уговаривала, напирая мягкой грудью на податливого Федьку: