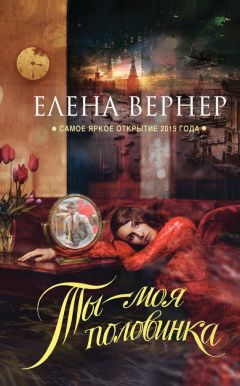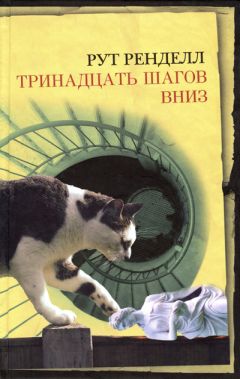– Кэтрин, остановитесь! – Оливеру стало действительно страшно.
– Это давний обычай. Нужно раскрыть все двери, чтобы Джемма тоже раскрылась и выпустила ребенка.
Несмотря на объяснение, Оливеру было не по себе. Он вернулся к двери в спальню и прислонился лбом к прохладной дубовой панели.
Роды длились несколько часов. Тихий летний вечер догорел, никем в доме не замеченный, кроме самой роженицы. Ей с кровати был виден лоскут опалового неба, а от вымытого ею накануне оконного стекла отражался луч и падал ей на лицо. Он напоминал ей другой свет, только что виденный в странном сне, бивший из дверей Дома. Ветер доносил в комнату запахи моря, парной земли после короткого дождя и цветущего сада.
Ночью бдение продолжилось. Пока Джемма металась в мокрой постели, без устали подбадриваемая акушеркой и мистером Нельсоном, остальные сидели в гостиной, где все так же шкафы зияли распахнутыми дверцами. Сквозняк гулял по комнате и шевелил синие шторы. Тускло горел ночник.
Наконец в половине четвертого, в самый темный и таинственный час, звуки, доносившиеся из спальни, изменили свой тон с тревожного на облегченный. Оливер, мгновенно уловив разницу, подскочил и в три прыжка оказался на пороге, распахнул дверь.
Мистер Нельсон держал в простыне маленькое скользкое тельце, розово-синее и покрытое слизью. Акушерка смотрела на ребенка с одобрением, Джемма все еще, казалось, не осознала, что мучения прекратились, ее взор был затуманен, а брови сосредоточенно нахмурены. Только руки беспокойно шарили по постели в поисках чего-то.
– Сынок у вас, – хмыкнул радостно мистер Нельсон. – Мои поздравления! Крепыш.
– Почему… почему он не плачет? – испугался Оливер. – С ним…
– Полный порядок. Жизнь слишком хороша, чтобы реветь, – хохотнула акушерка.
Лицо Джеммы прояснилось и обрело осознанность.
– Дайте мне, – тоном, не терпящим возражения, приказала она, и все, стоявшие в комнате, невольно вздрогнули. Ее голос окреп и никак не выдавал пережитых физических страданий.
Мистер Нельсон торопливо положил молчащего мальчика матери на сдвинутые под простыней колени. Все затаили дыхание.
Взглянув в его жаркие васильковые глаза, такие знакомые и долгожданные, Джемма заплакала от облегчения. Сморщенное от влаги личико, слипшиеся волосы – все это не имело значения. Она с первого взгляда узнала своего ангела.
«Привет», – хотела прошептать она, как шептала ему всю жизнь. Он всегда был с ней, но сегодня – впервые видимый и осязаемый. Настоящий.
– Наконец-то, – прошептала ему она.
Их ожидание окончилось. Карлайл протянул к ней ручки, и Джемма прижала его к груди.
В Локерстоуне говорили, что Джемма Хорни навряд ли будет хорошей матерью: слишком уж резкая, упрямая, у таких обычно терпения на ребенка не хватает. А ведь материнству надо научиться, и дело тут не только в том, как пеленать, кормить и подмывать маленькое существо. Научиться понимать, что теперь ты за него ответственен и что твоя жизнь теперь принадлежит не только тебе самой, а ему. Что он зависит от тебя полностью…
– Не знаю, не знаю, – поджала губы миссис Китс, ставя перед Роузи Сильвер тарелку жареного лосося с травами и овощами. Почтальонша как раз зашла в таверну «Гарпун» пообедать и обсудить рождение маленького Хорни. Пока Мюриэл ходила на кухню, у нее было время обдумать этот вопрос: какова Джемма в роли матери.
– Мне кажется, Джемме придется долго учиться, – продолжала миссис Китс, присев на свободный стул и наклоняясь к Роузи поближе. – Она ведь такая своенравная, ты и сама, Роузи, знаешь и мне не дашь соврать. Оливер уж на что терпелив, а она его не слушается! А теперь вот ребенок. Ей, поди, невдомек, что теперь нужно будет все свое время ему уделять и ее собственные желания никого больше не интересуют. Представляю, что будет, когда она это осознает… Она-то ведь только о себе и думает. То ли дело моя Бетси…
Роузи закивала, отчего ее глаза навыкате чуть не вывалились, как у пекинеса. Хозяйка продолжала расписывать, какая заботливая у нее старшая дочь, и ласковая, как домашняя кошечка, – а Джемма выскользнула из их мыслей, как арбузная косточка из сжатого кулака.
Самой Джемме до всех этих бесед не было никакого дела. Да ей не было дела и до всего остального в мире. Ее вселенная сжалась – или разрослась, – до размеров колыбельки, где посапывал Карлайл Джозеф Хорни. Кроватка стояла в родительской спальне. Это была резная колыбель из дуба, сделанная когда-то давно дедушкой Уильямом для их с бабушкой Джеральдиной первенца, и с тех пор тут успели увидеть свои первые сны все их дети, в том числе и Кэтрин. После Кэтрин здесь спала и сама Джемма. А теперь вот Карлайл. Проснувшись рано утром, он непременно начинал водить пальчиком по хитрым переплетениям дубовой резьбы, мягким отполированным завитушкам и выемкам. Свет был приглушенным из-за темного полога, куполом спускающегося на кроватку. За этим занятием сына и заставала Джемма. Она наклонялась к нему, улыбающаяся, счастливая, и гладкие завитушки переставали его занимать. Весь свет мира был не таким теплым, ясным и важным, как это лицо, большое, наклоняющееся, приближающееся откуда-то…
Первая мысль Джеммы была о нем – каждое утро. По ночам она часто вставала, выпутываясь из объятий Оливера и с тревогой подходила к кроватке, склонялась, прислушивалась к дыханию ребенка. Он дышал мерно и легко, и она успокаивалась, чтобы ровно через час снова проснуться и прислушаться. Звук его дыхания был для Джеммы непрекращающимся чудом.
Карлайл почти не плакал и не хныкал, как другие дети, – новоявленная бабушка Кэтрин удивлялась. Возможно, дело было в том, что Джемма чувствовала все его желания еще до того, как они начинали возникать в его маленькой голове. Она читала его лицо, его движения как давно изученную наизусть книгу. Одно слабое шевеление губ – и она подносила сына к полной, налившейся молоком груди. Один взгляд – и вот она протягивала и вкладывала в крохотные ручонки заинтересовавший его цветок, листик, лоскуток ткани. Джемма была неутомима, готовая каждую минуту качать, развлекать, кормить… Ее терпение, раньше бывшее весьма скудным, нашло какой-то скрытый, почти бесконечный резерв. Вся семья только диву давалась.
Впрочем, терпение Джеммы распространялось только на Карлайла. К замечаниям со стороны матери она была все так же глуха. Она игнорировала советы, не пеленала сына туго, как того требовали правила, и кормила не по часам. На все у нее был только один ответ – вздернутый подбородок и ревнивый жест, которым она прижимала к себе свое дитя.
Вечерами Джемма долго качала кроватку. Карлайл никак не хотел засыпать, он не сводил глаз с материнского лица. Тогда Джемма начинала напевать колыбельную. Эта мелодия была ей знакома, только она так и не вспомнила, откуда. Джемме всегда становилось досадно, что ее голос не может передать все великолепие музыки, звучащей у нее в голове. Музыка вилась, задумчива и нежна, и словно рассказывала о чем-то Джемме, а Джемма пыталась пересказать Карлайлу, как могла…
Наконец глазки сына закрывались, и Джемма еще долго смотрела на него. Ей казалось, что в этом маленьком дышащем существе слились ее прошлое и будущее.
И лишь одному человеку в доме с каждым днем жизни Карлайла становилось все хуже. Оливер с тоской вспоминал те дни, когда глаза Джеммы смотрели на него с нежностью, с любопытством, с заботой – да с любым выражением, но ведь смотрели! Он забыл те ночи, когда молодая жена улыбалась во сне, но не ему. Забыл, как Джемма была отстраненна и задумчива временами, как упускала нить разговора. Оливеру казалось, что раньше она принадлежала ему без остатка. Услужливая память латала воспоминания, штриховала их и выдавала картину безоблачной, неомраченной идиллии, которая царила между супругами до рождения их первенца. И молодой отец не мог прогнать от себя мысль, что Карлайл украл самое дорогое, что было у него.
Даже с Кэтрин, такой понимающей и такой любящей своего зятя, Оливер не мог поговорить по душам. Казалось, что женщины в доме – Джеральдина, Кэтрин и Джемма – просто обезумели с появлением крошечного малыша. Шли месяцы – все по-прежнему крутилось вокруг него. Дедушка Уильям и то появлялся в гостиной или спальне только для того, чтобы понянчить правнука. А Оливеру доставался дружеский кивок.
Возможно, сам Оливер и не отдавал себе в этом отчета, но такое поведение было похоже на отношение к нему в родительском доме. С самого детства этот мальчик был предоставлен многочисленным нянькам, а потом и учителям, призванным сделать из него достойного наследника отцовского состояния и фирмы и не способным заменить родительское внимание и тепло. Миссис Аделаида Хорни была занята просветительской и благотворительной деятельностью, сам мистер Джозеф Хорни почти не появлялся в своем роскошном особняке в центре Эдинбурга. Оливер и его младший брат Бенедикт не видели родителей неделями. Однако брата Бенни это не особо беспокоило, он был всем доволен, особенно количеством игрушек. С возрастом игрушки менялись, на смену игрушечному паровозику приходил вороной пони, а за ним и первый автомобиль. Дети Хорни выросли: Бенни был рад, что теперь может кутить, сорить деньгами направо и налево, Оливер же тяготился скорым вступлением в правление фирмы. В тот день, когда отец наконец озвучил свое желание сделать Оливера своим наследником, Оливер понял, что это его звездный час. Он может согласиться – и всю жизнь прожить как отец, не видя ни жены, ни детей, а только столбцы цифр и подобострастные рожи подчиненных. И он отказался, вывалив отцу первый и единственный раз ворох своих мыслей и обид, накопившихся за время одинокого богатого детства и юности. Уходил он, проклинаемый отцом, внутри злорадствуя, что теперь отцу придется в кои-то веки помучиться с сыном: нет, не с ним, а с младшим Бенни, который имел все возможности за пару лет погубить процветающее дело отца. Сам же Оливер открывал новую страницу своей жизни, покинув Эдинбург и переселившись как можно дальше, хотя и в пределах острова, от родителей и всего, что было связано с ним прежним. Все, что, по большому счету, осталось у него, было его внимательностью и обаянием, которое как в детстве, так и теперь позволяло ему очень быстро входить в доверие, нравиться людям. Он встретил Джемму, и в душе затеплилась надежда, что теперь все может быть лучше, намного лучше.