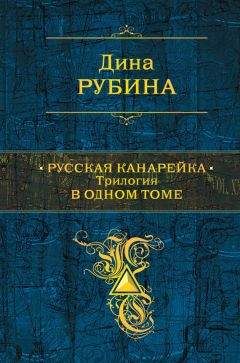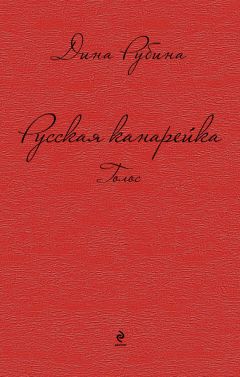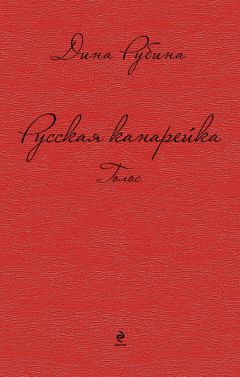Айя позади Леона приподнялась на коленях, положила обе руки на его плечи, придвинулась, прижалась теплой грудью к его спине.
– Ой, эт кто это там? – восхитилась Владка, пытаясь разглядеть обнаженную девушку за спиной сына. – Шикарная какая деваха! Только ты приодень ее, Лео, слышь? Чё эт декольте у нее… до аппендицита!
Сын расхохотался. Все было восхитительно и все по-прежнему: каждое Владкино слово – лишнее, за каждую фразу ее хочется прибить.
Айя оторопело глядела на огненно-рыжую женщину в компьютере. И едва ли не в унисон с нею спросила:
– Кто это?
Леон молчал, смущенно улыбаясь между двумя этими женщинами.
– Кто она? – с напором повторила Айя, разглядывая бесшабашно-веселое, молодое Владкино лицо.
Он удивленно качнул головой, будто сам не верил тому, что сейчас произнесет.
– Моя мать, – сказал, будто пробовал на звук непривычное, еще не освоенное им слово.
5В следующие гиблые месяцы ее беспросветного одиночества и тоски Айя вспоминала дни, прожитые с Леоном, как огромную, многоликую и просторную жизнь.
Как свою единственную светозарную жизнь.
Куда-то сгинули – как корочка отпала на здоровой коже – ее бродяжьи годы; даже то, что мысленно называла она «смертью в канаве», уплыло, как ветошь, как гнилой саван вослед истлевшему мертвецу.
И никак она не могла поверить, что жизни той было им отпущено всего ничего: несколько недель, если не считать их встречи на острове да еще той черной дыры – той разлуки, в которую они, дураки несчастные, сами прыгнули, как в звериную ловушку.
Эта прекрасная жизнь потом росла в ней, как дерево, – вроде и сама по себе, но в то же время по велению и под приглядом природы. В ее светлой кроне шелестели Париж и Кембридж, Лондон и Бургундия и во всем ослепительном блеске – последняя, солнечно-весенняя Лигурия: выхлест водопада из-под каменного мшистого моста, старый сарай с кусками шиферной крыши, прижатыми камнями, чтобы ветер не снес; пять отборных лимонов на малолетнем деревце, широкая штанина шальной радуги, спрятавшей в глубокий карман виноградник и колокольню. И ласковый белый кот, что сидел на каменном парапете над обрывом, невозмутимо зажмурив зеленые глаза…
Так стремительно в ней росла их огромная коротенькая жизнь – путешествие в страну-театр с человеком-театром, в чуткой готовности Леона к мгновенному воплощению, превращению, оборотной стороне, где день становился ночью, а луна так похожа была на «царский червонец».
Ее бесконечно удивляло то, как зависало время, как раздавалось пространство и каждый миг набухал сердцебиением опасного счастья. Как вилась среди каменных стен деревенская виа, как пронзительно синела внизу бухта, как в волшебном фонаре жили и двигались они с Леоном; как переплетались, касались, прорастали друг в друга их тела в пелене сна.
И как медленно, блаженно-устало расправлялась по утрам подушка, когда они поднимали с нее головы…
* * *
Портофино… Пор-то-фи-ино… Последний форт, конечная остановка. К нему и добираешься, как к последней точке на какой-нибудь вершине, по такой кудрявой спирали, будто штопор ввинчивается в нутро и на самом крутом вираже выдергивает сердце, словно пробку из бутылки… И тогда вокруг амфитеатром рассыпается деревушка, встроенная в излучину горы.
Но до двадцать третьего оставалось еще двое суток. И прежде времени соваться в крошечный Портофино, где каждый приезжий неизбежно выставляет себя на подиум набережной-пьяццы, собравшей в каменный кулак нити считаных, с горы сбегающих улочек, было крайне рискованно.
Так что остановились в Рапалло, на той же ривьере – не Рим и не Милан, но все же курортный туристический город, вполне обитаемый даже в это пустоватое время года.
В Рапалло Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер поднялась с инвалидного кресла и, укрепив себя мысленно и телесно, перешла на палку.
…Вечером двадцать первого апреля к одному из недорогих отелей на набережной подъехало такси. Из него выскочила хмурого вида распатланная девица в темных очках и, распахнув заднюю дверцу, принялась немилосердно тянуть из машины свою бабку («Всю дорогу, – рассказывал потом за ужином таксист своей супруге, – она обращалась к пожилой синьоре так: “Ну, заткнись уже, ба!” Вот это наша молодежь, и мы ее заслужили»).
Старуха не то чтобы сопротивлялась, скорее бестолково пыталась помочь, цепляясь за дверцу и всюду застревая ногой в черном ортопедическом ботинке, тыча по сторонам распальцованным копытом своей инвалидной палки. Таксист с неодобрительным видом ждал окончания этой корриды.
Сердобольный молодой портье, заметив сквозь стеклянные двери отеля затруднения синьоры, поторопился выйти… Он же помог девушке извлечь из багажника и разложить инвалидное кресло – девица благодарила и чуть ли не руки ему целовала: можно представить, как она, бедная, намучилась в дороге.
Старуху усадили, вкатили в разъехавшиеся двери… Тут опять возникли затруднения. Внучкин-то швейцарский паспорт был предъявлен и принят к регистрации, а вот старуха рылась в своей допотопной сумочке с застежкой в виде львиной морды, беспомощно выворачивая ее и встряхивая над тощими коленями в синих спортивных штанах, с которыми никак не вязались крупные позолоченные клипсы в ушах. Голова ее – трогательный серебристый ежик – слегка подрагивала: старческий тремор.
– Боже! – вскричала девица по-английски. – Ты забыла паспорт в аэропорту! Я так и знала! Я знала, что вся эта поездка будет моим мучением, я так и знала!
– Синьорина, синьорина, пожалуйста, не волнуйтесь! – поспешил вклиниться в назревающий, а вернее, перманентный скандал молодой человек. Для служащего небольшого отеля он говорил по-английски совсем неплохо. – Это не трагедия. Сейчас Винченцо поднимет вас в номер, а в аэропорт мы позвоним чуть позже. Я надеюсь, там не выбросят паспорт синьоры…
И когда кресло со старухой уже вкатили в номер, паспорт, слава богу, нашелся – где-то в складках допотопной вязаной шали, накрученной на бабкины шею и плечи. Так что звонить в аэропорт, а тем более ехать туда отпала необходимость. Винченцо получил свои чаевые – и пусть передаст молодому человеку, который так мило помогал и беспокоился, что паспорт мы при случае, попозже… да ведь это и не важно, а?
Девица улыбалась и встряхивала бесподобной гривой – темно-русой, с высветленными прядями, отчего та казалась пышной плиссированной юбкой, довольно нелепой.
– А вот этот концерт с потерянным паспортом – он к чему был? – спросила Айя, заперев дверь номера.
– Чтобы никчемная и немощная бабка покрепче связалась с твоим безукоризненным швейцарским паспортом.
– Но зачем? У тебя у самого есть надежный…
– Не такой надежный, как твой, – возразила старуха, поднимаясь с кресла и стаскивая с ноги бочонок ортопедического ботинка. – К тому же Ариадна Арнольдовна в свое время поколесила по миру и всюду оставила неизгладимый след. Пора ей и на покой. – Взвесив в руке тяжеленький снаряд, бабка от всей души запустила им в угол комнаты и принялась выпутываться из лапчатой бежевой шали: старое милое снаряжение со дна картонного ящика во фрипри[62] неподалеку от дома. – Боюсь, это последний вояж славной старухи, после которого она откинет ортопедические копыта.
– К огромному облегчению наследницы… – вставила Айя.
Леон рухнул на застеленную кровать и с наслаждением потянулся. Номер был хорош: просторная комната, высокие потолки, бронзовые бра, худо-бедно копия Караваджо, ну и прочие карнизы-плафоны-гардины; балкон во всю стену… Что тут скажешь: Лигурия, почтенная итальянская ривьера.
Айя открыла балконную дверь и вышла оглядеться. Сказала оттуда:
– Красота – сдохнуть!
Подобные реплики означали у нее обычно профессиональное равнодушие к объекту. Когда ей хотелось снимать, она молчала, щурилась и беспокойно шарила руками где-то в районе диафрагмы, где должен был висеть фотоаппарат.
Балкон их удачно расположенного номера (третий этаж) смотрел и на море, и на город.
Парадная дверь отеля выходила на небольшую площадь, в центре которой на постаменте (как пожилой регулировщик, ожидающий выхода на пенсию) стоял бравый бронзовый мужчина с двумя живыми голубями – на голове и на эполете.
Слева, за каменным парапетом набережной сверкала морская гладь, похожая на задний двор большого мебельного склада, заваленный всяким-разным: нескончаемой толпой бок о бок тянулись вдоль набережной лодки, катера, бесчисленные ряды маленьких парусных яхт со спущенными (штанами, подумала Айя) парусами…