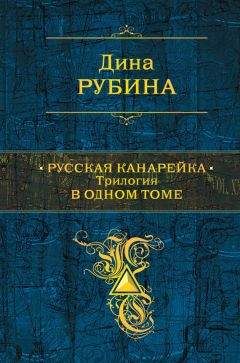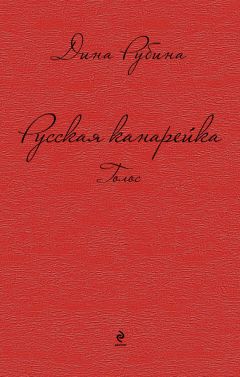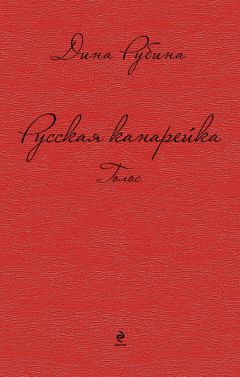Парадный бульвар по правую руку плавно обегал чудный сквер с толпой каштанов и фикусовых деревьев. Высокие чугунные фонари, уже затеплившись электрическим медом, освещали шеренгу элегантных фасадов в стиле бель эпок: высокие окна, мансардные окошки в скатах черепичных крыш, невесомые изящные балкончики.
Внизу под цветными парусиновыми тентами сновали официанты.
Нежные весенние сумерки все длились и длились, баюкая нарядную и праздную жизнь вечного курорта…
Но по-настоящему взгляд притягивали дальние планы, озаренные уходящим солнцем: россыпь домов и башенок на горах, невесомая гребенка акведука на фоне пепельного неба – все было уравновешено ритмами разнообразной и разноплановой зелени.
Там и тут по холмам, как сухопутные медузы, расселись огромные клубни бледно-зеленых агав. Рассыпчатые гривы гигантов-пальм над гладкими от старости, темными и неуловимо эротичными стволами, издали казались метелками от пыли, воткнутыми в холмик. Они выплескивались из комковатых крон зонтичных пиний, черными облаками присевших на зубчатые баш ни и крыши старинных вилл.
И всюду крутизна темно-зеленых кудрей на горах была расчесана зубьями кипарисов…
– Тот мужик внизу, обгаженный голубями, – он кто? – спросила Айя, вернувшись с балкона в комнату.
– Скорее всего, Витторио Эмануэле Третий, – отозвался Леон, блаженно пошевеливая большими пальцами босых ног. Он еще в аэропорту обнаружил, что ортопедический ботинок маловат и слишком тяжел. – Его Величество король единой Италии, император Эфиопии, король Албании… Савойская династия, если не ошибаюсь.
– Жирненькое местечко, – заметила Айя.
– Ты еще не видала Портофино, – возразил Леон. – Скромное, оглушительное рыбачье богатство первейших мира сего. Говорят, там и Берлускони держит виллу, и еще кое-кто…
– А рыбачьи борго на скалах, про которые ты соловьем разливался, – там тоже гламур прет из каждой собачьей будки?
– Разумеется. – Леон скукожился на постели, подтянул ноги и по-стариковски затряс немощной головой: – Туристы обгадили этот мир, дитя мое, как голуби – беднягу Витторио Эмануэле.
– Ты похож на старика Вольтера, – пробормотала она, внимательно его изучая. – Тебя можно снимать без конца, и каждый снимок будет иным.
– Я похож на Барышню, – отозвался он. – На свою знаменитую прабабку Эсфирь Гавриловну Этингер. Понятно?
– Понятно. – Двумя пальцами она приподняла полосатый парик – как дохлую медузу – и с минуту покручивала его над макушкой. Наконец опустила, но задом наперед, отчего приобрела вид горца в папахе. – Даю тебе пять дней, старая мымра. Если через пять дней мои руки – вот эти, – растопырила пальцы и уставилась на них, как безумная леди Макбет, – если они не будут заняты фотокамерой, а мои изголодавшиеся по работе глаза будут вынуждены созерцать одну только твою мятую рожу…
Через пять дней, дитя мое, мы с тобой будем либо навсегда свободны, либо…
– Кстати, на какой помойке ты надыбал эти бездарные перстни и клипсы?
– Цыть, ничтожная! Это старая французская бижутерия. Между прочим, на сцене под софитами сверкает, как яхонты и рубины.
– Зато без софитов ты – вылитая бандерша на покое.
– И прекрасно! Поди-ка сюда, моя скромница… по кажу тебе суперприемчик старых шлюх.
– Попробуй только!.. Убери свои старые лапы! И смой с лица это дерьмо!!! – И вслед ему, в ванную: – И развратные клипсы – к черту!
* * *
Карту рыбачьей деревни Портофино Леон знал наизусть, до мельчайших деталей.
Ограниченную естественной береговой линией, стиснутую между скалами, ее можно было обойти за час: коммуна, полиция, Церковный дом братства Богоматери (он же – воскресная школа, где детишки корпят над катехизисом), адзьенда туристика, крошечный театрик, где проходят фестивали и концерты… На оконечности мыса расселась под старыми пиниями кряжистая круглая, желто-серая башня замка Кастелло Браун. Две церкви, Святого Георгия и Святого Мартина, отмеряли время неторопливыми колоколами. Ну и, конечно, пьяцца Мартири дель Оливетта, туристическое сердце Портофино – рестораны, магазины, лотки и лавки – подковой лежала у набережной марины с двумя ее причалами: моло трагетти для рейсовых катеров и моло Умберто Примо – для швартовки яхт, катамаранов и лодок…
Поднявшись на рассвете, Леон тщательно выбрился и привычно загримировался, боком присев на краешек стула. Бывали моменты, когда эта, им же сочиненная, личина казалась ему приросшей к его коже.
(Однажды приснился сон, в котором он до утра слой за слоем снимал вязкую ветошь морщин, похожих на рыбачью сеть с застрявшими в ней ракушками, водорослями и скелетами рыб, но так и не смог очистить лицо. Проснулся в ужасе и долго умывался, вновь и вновь намыливая физиономию и подозрительно вглядываясь в отточенную линию скул, высокий тонкий нос и густые сумрачные брови…)
В последнее время – чаще всего на рассвете – его допекал покойный Адиль: улыбаясь, плыл на изнанке еще закрытых глаз. Или валялся на дне подвала с подвернутой детской рукой. А то вдруг поднимался как ни в чем не бывало и успокаивающе говорил: главное, что ты получил мой сигнал, падре Леон. Я ведь не перепутал страницу, хотя уже видел, как разминаются, готовясь, руки убийцы… И если соберешься мстить за меня, падре Леон, не отдавай эту радость пуле; пусть твои руки – у тебя ведь они обе сильные и здоровые, – пусть они насладятся его последним всхлипом.
Странно, что минувшие годы – музыка, спектакли, города, все, что (ему казалось) милосердно стянуло края этой раны и замутило наконец бесконечно длящийся полутораминутный ролик в Интернете, где толпа глумилась над мертвыми телами парней, которым он обещал защиту, – эти благополучные годы словно бы отпали, унеслись, обнажив ту же разверстую рану, по-прежнему истекавшую его виной, его отчаянием и ядом неосуществленной мести.
И вот он настиг неизвестного врага, был на расстоянии вытянутой руки, увидел его личину… И – отшатнулся, опознав знакомые черты.
Сейчас, проснувшись ночью даже на минуту, чувствовал ровный внутренний жар, так что хотелось пар выдохнуть; а проведешь рукой по лбу – холодная испарина.
Он прислушивался к себе и чувствовал только хриплый безумный гон – то ли охотника, мчащегося во весь опор, то ли волкодава, спущенного с цепи…
Забыл, когда в последний раз распевался. Да и кто распевается на охоте?
Он допускал, что обезумел, что одержим маниакальным стремлением к убийству, и Айю тащит за собой, как заложницу, прикрученную к руке веревкой.
Может, его уже надо вязать по рукам-ногам, запереть в психушку, накачивать какой-нибудь прохладительной дрянью?
Он распаковал фирменную коробку «Левенгука», извлек из футляра и осмотрел бинокль, купленный в аэропорту: легкая компактная модель, двадцатипятикратное увеличение. Хотя, если верить Николь, из-за гористого ландшафта и густой растительности рассмотреть что-либо на соседнем склоне очень сложно. С вертолета разве что… Ничего, попытка не пытка. Ну-с, обновим снаряжение…
Он вышел на балкон и навел окуляры на дальнюю заманчивую гору, на виллы какой-нибудь Санта-Маргариты. Перед глазами промахнула полоса густой курчавой зелени, залатанной черепичными крышами, не сколько старых агав, в вихре бледно-зеленых полосатых лент… полет замедлился… Глаз нащупал объект, пальцы подкрутили колесико резкости… И вот на макушке горы возникла зубчатая кирпичная стена поместья – новенькая черепица, одна к одной, по периметру круглой башни, как классическое трезвучие, взбегают окошки – до-ми-соль-до! – и флаг развевается, семейный или гостиничный вымпел. Прекрасно, прекрасно. Вероятно, это и есть тот самый рай на земле.
Леон выждал еще минут десять – жалко было внучку будить. Но никуда не денешься, первый рейд надо провести как можно раньше. Первый прогулочный рейд… Где моя инвалидная клюка о четырех копытах? Вот она, приготовлена. Ортопедический ботинок (настоящий «испанский сапог») нешуточно сдавливает ногу: старухина хромота будет вполне натуральной. Сидела бы дома, старая, чего по горам-то шляться…
Наконец приступил к побудке – это всегда занимало какое-то время, словно, засыпая, Айя погружалась в более глубокие слои забытья, чем остальные люди. Чтобы выманить ее из Аида, Орфею недостаточно было окликнуть или просто погладить щеку. Порой приходилось минут пять тормошить ее, щекотать, бормотать в шею или в спину патетические монологи, выцеловывать ушко, рявкая отрывистые приказы, даже вполне чувствительно кусать.