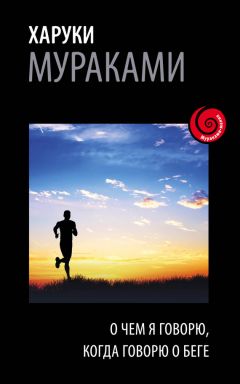Я взираю на расписанные стены, строгие изваяния наследников святого престола католической церкви, а сам думаю о Пьете: «Ему было тогда всего двадцать четыре года».
Вечером в номере я наливаю себе виски и медленно отпиваю. Думаю о Пьете.
«Большая часть моей сознательной жизни уже прошла, что я создал в этом мире прекрасного? Что я сделал для этого мира? Зачем я тут? Ему было двадцать четыре года! А я, кажется, прожил свою жизнь зря!»
Постепенно честные, но очень грустные мысли разбавляются крепким напитком, и я засыпаю.
Пьета.
Маленькое симпатичное местечко Тервете, здесь на хлеб насущный зарабатывают в поле. Так это было пятьсот лет назад, так это происходит и сейчас, только лошадей сменили мощные машины, оставив половину населения без работы. Трудно им сейчас заработать. Но люди тут настоящие, колоритные, таких во всей Латвии не сыскать.
Вечером иду в местный бар, где собираются фермеры, и впитываю в себя вместе с пивом их незамысловатые истории.
«Никто не хотел верить, что она ко мне вернется.
Что греха таить, не верил в это и я. Женщина не собака, ее жирным куском не подманишь», – потом Юргис криво улыбнулся и добавил: «Но кой-какие методы имеются». Выпито было уже предостаточно, языки развязались, и Юргис продолжал: «Когда она ушла к Янке, я с горя, а скорей, с обиды и унижения запил, – да вы все это знаете».
И тут, видно, вспомнив то время, махнул рукой бармену и показал пальцем на пустую кружку. «Через недельку пришел в себя, завязал от пьянки на горле узел и стал думать, как мне ее назад вернуть. И не то чтобы я без нее жить не мог, просто «жаба задавила», – взяла меня и променяла на этого…» – и, не находя подходящего слова, просто изобразил отвращение на лице: «Ну, и созрел у меня замечательный план».
«В августе рижский рынок – ну просто выставка достижений сельского хозяйства не только нашей страны, но и всей Европы, включая сюда и Среднюю Азию. Гомон стоит, словно это стадион какой-то. Только болеют все каждый за себя – подороже продать, подешевле купить. А в начале июня там тишина. Первыми обычно появляются литовская клубника и белорусский молодой картофель. Наша клубничка созревает в середине месяца, да и то наполовину зеленая, но народ ее отрывает с руками, надоело жрать безвкусную, зимнюю, Бог знает из каких краев и чем политую. Сами знаете, мы кроме говна ничего не добавляем» – и все, соглашаясь, загомонили. «Ну, моя-то Анита с первой клубничкой и разной другой зеленью поехала с ним торговать. Думают, если своей задницей там повертит, больше денег дадут. Я на Янку злобы не держу, он всегда был хорошим хозяином, это моя была всегда, как каток – что на пути ни попадается, все под себя подминает. Она через меня в свое время так проехала и зацепила своим «пушистиком», аж на пять лет, да чего там на пять, я и сейчас всегда готов… Пока на ее пути этот фермер не объявился.
Говорят, она его прямо на ферме, возле кучи навоза уговорила», – он отхлебнул из кружки, сделал глубокую затяжку и задумчиво выпустил из себя дым несколькими клубящимися кольцами: «Много бы я дал, чтоб посмотреть, как они там у дерьма копошились!» – и вся компания разразилась пьяным заразительным смехом, даже те, кто совсем не слышал, о чем речь, ржали до икоты, сами не зная над чем. Как только все успокоились, Юргис продолжил: «Махнул я рукой на свое хозяйство, ну, не так чтобы совсем, соседку Инету попросил приглядеть, – и за ними, сердешными, в город.
У меня там брат двоюродный в полиции работает» – и, гордо посмотрев на всех, поднял кверху кривой указательный палец и, растягивая слова, продолжил: «Баааальшой начальник!» – и все уважительно закивали, кроме Петериса, который недавно вышел из тюрьмы и не смог не съязвить: «Мент, значит».
Юргис нахмурился, посмотрел на него из-под лохматых бровей: «Это для тебя мент, а для меня защитник правопорядка, чтоб такие, как ты, по курятникам не лазили», – намекая на то, что Петериса недавно поймали за ловлей карпов в чужом пруду. И уже через секунду их растаскивали в разные стороны. А их огромные крестьянские натруженные кулаки вхолостую распарывали перед собой воздух. Помахали немного, помахали, и снова уселись за столы, заставив Юргиса и Петериса пожать друг другу руки.
Потом выпили пива за дружбу, за хороший урожай и разную другую несущественную мелочь. И все уже забыли, о чем рассказывал Юргис, только меня уж очень заинтересовало, чем вся эта история закончилась, и когда большая часть народа уже потянулась к домашнему очагу, я как бы просто так, для поддержания разговора, спросил: «Ну, а что там дальше было, Юргис?»
Он долго хмурил лоб, вспоминая, о чем был разговор, потом его лицо просветлело: «Ты о моем «пушистике»!» – в порыве нежности он так называл свою Аниту. «Все хорошо, она ко мне вернулась», но я пытался вернуть разговор к истокам, чтобы узнать, как это произошло, и спросил: «А как брат из полиции, помог?».
Тут он вспомнил, встрепенулся: «Да хрен он помог, мент он и есть мент!» – произнес он. Но так брата называть мог только он. И я даже не сказал ни слова, чтобы не нажить проблем.
Вечером я лежал на кровати в деревенском доме и вспоминал этих мужиков с их проблемами, и их настоящим миром.
На следующий день утром отправляюсь в свой мир – мир гремящих трамваев и ревущих автомобилей.
Обшарпанный и прокуренный насквозь бар интерклуба был тем редким местом в городе, где собирались вместе и представители закона, и представительницы запретной, порицаемой, но очень древней и нужной профессии. И те, и другие приходили сюда по службе, представители закона делали вид, что пытаются уличить этих дам в проституции (на самом же деле под крышей этого заведения между ними царили мир и согласие), а путаны делали вид, что изучают английский (многие из них действительно учились в университете на факультете иностранных языков), в общем, каждый занимался своим делом. Девочки «окучивали» морячков, а служба накачивалась дешевым виски и пивом.
Дядя Коля, старый кадровый разведчик, вышел на пенсию уже много лет назад и околачивался в интерклубе на полставки то ли как завхоз, то ли как человек, который должен за всеми здесь приглядывать, чтобы никто не нашпионил. Поскольку я работал тут барменом, мне вообще опасаться было нечего, кроме левого товара. К тому же, для дяди Коли я был незаменимым человеком. Ежедневно он выпивал грамм так по триста пятьдесят водочки и до конца месяца ему всегда чуть-чуть не хватало наличности, вот тут-то на помощь приходил я, открывая кредит. Мы с ним были очень дружны, и поэтому он рассказал мне много интересных историй времен войны, но одна из них зацепила меня на долгие годы. Сейчас этого дяди Коли уже нет, но осталась история, которую я носил в себе много лет.
– Мне тогда было двадцать шесть, шел четвертый год войны, и вся моя грудь была в «железяках». Конечно, уже вовсю попахивало победой, мы гнали гада по всем фронтам, и умирать ужасно не хотелось. Но пули, сам знаешь, – он обращался ко мне так, словно я тоже понюхал пороха, – летят от всевышнего по заказу: пора отъезжать – получи.
Дядя Коля отпил полрюмки:
– Решили меня забросить в тыл врага, командиром диверсионно-разведывательной группы из двадцати человек, вроде как добровольцев. И как же это было не вовремя, к нам как раз пополнение пришло из салаг лет девятнадцати-двадцати, молоко на губах еще не обсохло. Ну, построили их, объяснили задание, и я кликнул: «Добровольцы есть?» – и представляешь, все шестьдесят человек сделали шаг вперед. Он опять приложился к рюмке, и по его лицу прошла, как тень, еле уловимая судорога. – Знали бы они, куда идут.
– Забросили нас глубоко в тыл поздней ночью. И с самого начала все пошло не так, как надо. Приземлились чуть ли не в центре болота. – Дядя Коля усмехнулся:
– Знаешь, мне казалось, что болота есть только у нас, оказалось, и у них трясины хватает. Слава богу, никто не потонул, но вымокли до нитки, грязные как черти. Хорошо врага рядом не было, положил бы нас всех как миленьких.
На секунду он прервался, подвинул по стойке рюмку:
– Накапай еще, – и продолжил:
– Часа три шли к месту назначения по бурелому, вымотались все, и тут слышим – корова замычала. Прошли немного в ту сторону, смотрим – на полянке хуторок стоит, симпатичный такой. Послали вперед разведку – все, слава богу, чисто. Докладывают: «Дед с бабкой и детей малолетних человек десять». Ну, мы подошли, все честь честью, у нас ребята на ихнем многие говорили, попросили воды и часика два позволения отдохнуть.
Дед мне, честно говоря, сразу не понравился, взгляд такой волчий, но я значения этому не придал, что тут сантименты разводить, любит, не любит – раз с автоматом пришли, хочешь не хочешь, полюбишь.